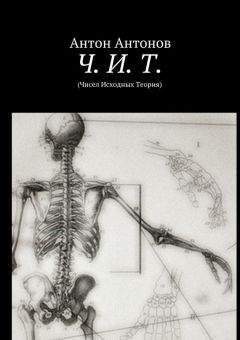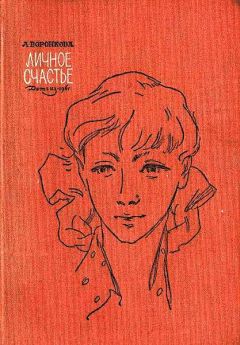Любовь Воронкова - Старшая сестра
– Папа, – сказала Зина, чувствуя, что больше не может выдерживать этого молчания, – меня сегодня хотели исключить из отряда…
У отца карандаш застыл в руке.
– За что же? Плохо работала?
– Нет, не за это… – Зина отрицательно покачала головой. – За то, что я в церковь ходила…
– Ты – в церковь? – удивился отец; ему показалось, что он ослышался. – Как это – в церковь? Зачем?
– Бабушке… кулич святить…
Отец встал, резко отодвинул стул и, побледнев от гнева, молча направился в кухню.
Зина испугалась и замерла на своём стуле: она никогда ещё не видела отца таким гневным и страшным. Ребятишки хохотали, швыряя друг в друга мячиком. Но, почуяв что-то неладное, присмирели, поглядывая на Зину.
А в кухне мирная беседа была нарушена.
– Мать, – голос отца был резкий и твёрдый, какой-то совсем незнакомый, – пойдём-ка в комнату. Поговорим.
Отец, крупно шагая, вернулся в комнату. За ним, еле поспевая, вошла изумлённая и немного оробевшая бабушка.
– Слушай, мать, давай поговорим с тобой серьёзно и раз навсегда, – обратился к бабушке отец, когда оба сели. – Говорю это при детях, пусть слышат.
– Да чего дело-то касается, не пойму никак? – сказала бабушка. – Нешто опять не угодила?
– Дело касается вот чего… – Отец старался говорить спокойно, но это трудно ему давалось. – Ты в бога веруешь, ну и веруй… Мы уже говорили с тобой об этом…
– А, вон что! – перебила бабушка. – Опять за бога взялись. Не запретишь!
– Веруй, пожалуйста! Молись! – продолжал отец. – Твоё дело. Мы никому молиться не запрещаем. Но ещё раз – в последний раз! – предупреждаю: детей не трогай. Я коммунист. И дети мои станут коммунистами, если будут того достойны. А я хочу, чтобы они были достойны.
Бабушка всплеснула руками:
– Ах, батюшки, кровные! Ведь я же ей говорила: иди переулочком, чтобы никто не видел!
– А если бы никто не видел, – сурово возразил отец, – так она сам была бы обязана рассказать на отряде… А дело-то, мать, хуже, чем ты думаешь, – продолжал он сурово. – Ты её заставила изменить пионерской организации, ты её заставила изменить своему пионерскому слову, своему пионерскому торжественному обещанию. Какие слова она произносила, когда вступала в отряд? «…перед лицом своих товарищей торжественно обещаю…» Какое же это обещание, если пионер с красным галстуком на шее идёт в церковь и всякие обряды суеверия совершает? Если отступил от своих, то куда перешёл? К противникам перешёл. Сегодня уступил по слабости – в церковь сходил. А завтра может снова по слабости уступить – предателем Родины стать?..
– Папа, что ты! – прервала Зина и приподняла руку, словно защищаясь от удара.
– Да-да! – сурово продолжал отец. – А откуда же берутся предатели? Вот из таких людей они и берутся, которые не умеют твёрдыми быть, не умеют быть принципиальными. А какая же ты пионерка, если при первом же испытании и сдалась? И почему мне не сказала?
– Я не хотела тебя расстраивать… – прошептала Зина.
– А что же, я у тебя только подопечный? А разве я тебе помочь не смог бы? Ты, значит, и сильнее меня и умнее?
Зина поглядела в тёмные сверкающие глаза отца:
– Ой, что ты, папочка!
Отец подошёл к Зине, погладил её понуренную голову.
– Нет, дочка, так не годится – всё на себя брать, – уже гораздо мягче сказал он. – Если друзья, так друзья: и радости пополам и горести пополам. А трудное дело в жизни встретится – решать вместе. Авось и я на что-нибудь тебе пригожусь!
Зина схватила руку отца и молча прижала её к своей мокрой от слёз щеке.
– Весна идёт… – вдруг задумчиво сказала бабушка, взглянув на сосульку, повисшую за окном. – Скоро огороды сажать…
– Что это… вдруг? – Отец внимательно посмотрел на бабушку.
– А так, – уклончиво ответила бабушка. – Землю готовить надо. А вы уж тут без меня…
Отец пожал плечами не то с досадой, не то с печалью.
– Я тебя, как говорится, не неволю, – сказал он. – Может, тебе у нас и не нравится – с ребятами трудно, к городу не привыкла… Гляди сама. Я бы рад тебя не отпустить – когда ты здесь, у меня за ребят душа спокойна, – но если тебе плохо… то…
– А что мне плохо? – прервала его бабушка. – Я не жалуюсь. Я просто так – поглядела на сосульку, весна вспомнилась… Огороды сажать…
– Да какие уж тебе огороды сажать – скоро семь десятков стукнет! – возразил отец. – Тебе посаженного хватит. Ну что ж, ты опять одна там будешь? Подумай!
– А что я – не была одна? Как старик умер, так и одна, никому не нужная… Не привыкать!
– Ты права, мама… – хмуро сказал отец. – Да, забывал я тебя в жизни… Не забывал, конечно, а одну оставлял. Виноват в этом. – И сердечно, будто прося прощения, поглядел ей в глаза. – Ну, а теперь-то зачем тебе одной жить? Подумай!
– Да ведь подумаю. Конечно, подумаю. Да ведь если и останусь – неизвестно, угожу ли… Детки-то у тебя не очень покорные.
– А ты не к «деткам» обращайся, а ко мне. С детьми я сам договорюсь. Они у нас скоро вырастут, совсем умными станут… Правда, ребята?
Бабушка, польщённая тем, что она так нужна, считала, что можно ещё и помучить его немножко: не отвечала ни «да», ни «нет». Может, останется, а может, уедет. Кто ей запретит? Но сама-то она знала, что никуда не уедет. Она уже обжилась в этой уютной тёплой квартире, ей уже понравилось заправлять хозяйством и всей семьёй, она полюбила вечерние чаи с пирогами в обществе Анны Кузьминичны… А праздники, когда можно пойти в «Гастроном» да понабрать разных вкусных вещей! Андрюша-сынок всегда был прост на деньги – и сейчас не хитрее: никогда и не спросит, куда она их истратила.
В коридоре раздался робкий звонок. Антон бросился открывать. Несмело, словно в первый раз, в комнату вошла Фатьма. На лице у неё не было улыбки, а широко открытые глаза сегодня особенно напоминали цветы.
– Фатьма! – обрадовалась Зина и, взяв её за руку, ввела в комнату.
Фатьма с опаской взглянула на бабушку Устинью. Но отец, заметив этот взгляд, ласково сказал:
– Входи, входи, чего боишься? К чужим, что ли, пришла!
Девочки уселись в стороне и принялись было шептаться. Но отец никак не захотел сегодня оставаться в стороне.
– Шептунов на мороз! – сказал он. – Ты что же, Фатьма, за подругой не усмотрела? Вон как ей в отряде-то досталось сегодня!
– А мне тоже досталось… – хлопая своими большими, загнутыми ресницами, сообщила Фатьма.
– Да ну? – удивился отец. – А тебе за что же?
– За непионерское поведение.
Ответ Фатьмы прозвучал еле слышно, будто мышь пропищала.
– Эге! – сказал отец. – Ишь какой голосок-то у тебя тоненький… А во время этого твоего «непионерского-то поведения» он небось погромче был, а?
Фатьма и Зина переглянулись: они обе вспомнили и кулаки и «крысу» – и ничего не ответили.
– Эх, вы! Штрафники, значит, – сказал отец и, сунув руки в карманы, принялся ходить по комнате. – Эх, Зина, а ведь на тебя малыши смотрят – ты ведь у них старшая сестра! Как же это так, а?
Бабушка, вспомнив, что у неё в кухне и чай, и кулич, и Анна Кузьминична дожидается, отправилась туда. Изюмка немедленно забралась на колени к Фатьме. А Антон стоял около Зины, тихонько сопя носом, и, не зная, как выразить своё сочувствие, теребил ленту в её косе.
– Да, товарищи, – помолчав, сказал отец, – жизнь – это вещь сложная. Жизнь прожить – не поле перейти. И ошибки бывают, и промахи, и тяжёлые дни. На ошибках нам учиться надо. А тяжёлые дни переносить стойко. Что ж поделаешь!
Отец вздохнул. Он-то знал, как нелегко быть стойким в тяжёлые дни. Горе, которое было недавно пережито, потеряло свою невыносимую остроту, но легче не стало. Оно ушло в глубину сердца и напрочно поселилось там.
– Ну и галстук-то свой пионерский надо беречь. Как это там в стихах-то говорится?
Как повяжешь галстук —
Береги его.
– «Он ведь с нашим знаменем
Цвета одного», –
подхватили в два голоса Фатьма и Зина.
– Вот то-то – цвета одного. Частица этого нашего знамени-то. Вот ведь как крепко его беречь-то надо!
– Мы будем беречь! – тихо сказала Зина.
– Мы будем беречь! – повторила Фатьма, не поднимая ресниц.
Изюмка обняла Фатьму за шею и прижалась щекой к её щеке. Все примолкли, задумались.
А за окнами стоял уже по-весеннему голубой вечер, падали и разбивались подтаявшие сосульки, звякала весёлая капель. И тонкая веточка с чуть набухшими почками легонько постукивала в окно, стараясь напомнить о том, что скоро весна, что впереди очень много света, солнца и радости.