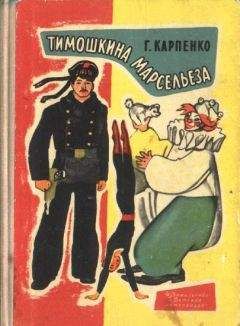Лев Рубинштейн - Честный Эйб
Колокольчик звякнул, конка затряслась и потянулась в гору.
— У меня муж на позициях, — сказала молодая мать.
— Приезжает на побывку?
Мать отрицательно покачала головой.
— Теперь не отпускают. Раньше приезжал.
Ребёнок снова закричал.
— Однако девочка крепкая, — улыбаясь, сказал пожилой. — Горло как паровозный свисток.
Большой человек в рубашке, расстёгнутой на груди, молча встал, подошёл к матери и протянул руки. Мать посмотрела на него испуганно.
— Что вам нужно? — спросила она.
Человек, не говоря ни слова, сгрёб девочку вместе с одеялом и направился на заднюю площадку конки. Мать приподнялась.
— Не бойся, — сказал пожилой, — это добрый человек. Видишь, книжку оставил, образованный.
Докер из ночной смены нагнулся и прочитал название книги: «Листья травы».
— Это про огород? — спросил он.
— Стихи, — уверенно отвечал пожилой. — Он сам их написал. Он поэт.
— А звать как?
— Уи́тмен. Я его знаю, он служит санитаром в госпитале.
— Поэт, а здоровый, — проговорил докер, глядя на заднюю площадку. — Ходит в такую погоду в расстёгнутой рубашке.
— Богатый? — спросила мать.
Пожилой рабочий фыркнул.
— Поэты богатые не бывают, — сказал он благодушно, — а про этого ещё вдобавок пишут, что его следует «публично высечь». Я сам читал.
Девочка неожиданно снизила голос и вперилась серыми глазёнками в седеющую, могучую бороду Уитмена. Видно было, что этот дядя произвёл на неё впечатление своими размерами. Девочка сморщилась, попробовала ещё раз крикнуть и вдруг, выпростав ручки, ухватилась пальцами за его бороду и заморгала веками.
— Ну вот, — сказал Уитмен, — познакомились, а теперь спи.
Мать вышла на площадку.
— Мне здесь сходить, — сказала она.
Уитмен потихоньку отцепил две ручонки от своей бороды и отдал матери ребёнка.
— Спасибо, — застенчиво проговорила мать.
— Видите, всё дело в свежем воздухе, — сказал он, — и, если будете писать мужу, передайте ему привет от Уолта Уитмена.
Мать сошла, обернулась и помахала ему рукой. Уитмен приподнял над головой свою огромную шляпу и проводил ласковым взглядом мать с дочерью. Конка заскрежетала колёсами на повороте. Уитмен прошёл через вагон, подхватил свою книжку и спрыгнул с передней площадки.
— Настоящий парень, — сказал докер, — я не думаю, что его следует публично высечь. А что ему надо в церкви?
— Это госпиталь, — отвечал пожилой, уткнувшись подбородком в шарф.
И в самом деле, над церковной дверью уныло свисал мокрый белый флаг с красным крестом.
В этот день в госпиталь привезли негра-гиганта с раздробленной ногой. Его везли в санитарном фургоне семь часов, не сняв с него порыжевшей военной куртки, заляпанной грязью, и форменного кепи, из-под которого торчали жёсткие, курчавые волосы. Дежурный врач осмотрел его и сделал скучное лицо.
— Куда класть? — спросил Уитмен, снимая с раненого кепи.
— В боковой притвор, — ответил врач.
«В боковой притвор» означало, что раненый безнадёжен.
— Эй, масса! — неожиданно сказал негр. — Я выздоровею, если с меня снимут куртку. Я не могу в ней дышать. Очень-очень…
— У нас холодно, — сердито сказал врач.
— Ничего. Только дайте подышать.
Уитмен снял с негра куртку и помог ему поудобнее улечься на носилках. Он не ушёл, пока солдата не обмыли и не устроили на койке, подальше от двери. Негр всё время повторял: «Не бойтесь, масса белый, я здоровый, очень-очень…»
Грудь его высоко поднималась.
— Я бежал с Юга, масса, — добавил он, — я кузнец, бежал через войну. В меня стреляли. Но я убежал. Потом мне дали куртку, и сапоги, и фуражку и — господи благослови массу Линкольна! — дали ружьё. И я стрелял в мятежников. Это было хорошо, очень-очень! Я выздоровею.
Негр закрыл глаза.
— Бедняга, — прошептал Уитмен и тихо отошёл от койки.
Работы в госпитале было много. Уитмен писал впоследствии:
Вдоль длинных рядов коек я прохожу и с конца возвращаюсь,
Я к каждой из них подхожу, не обойду ни одной,
Помощник мой сзади идёт и держит поднос и ведёрко,
Наполнит кровавым тряпьём, опорожнит и снова наполнит…[12]
За церковью стояла повозка, в которую после операций складывали отрезанные руки и ноги и заваливали сверху окровавленными бинтами. Повозка сменялась каждые три часа.
Раненые любят разговаривать, если они недавно вышли из боя. В церкви не смолкали голоса:
— Это чепуха, что вас поставили в заграждение! Вот я бы вас послал к чертям, на левый фланг, к речке. Вот где вы наглотались бы дыму!
— Плевать на заграждение. Это всё равно что в резерве, сидишь и куришь!
— Уитмен, следующего на перевязку! (Это голос дежурного.)
— …И вдруг я смотрю — он мёртв, только он не упал а стоит…
— Сэр, прошу обратить внимание, мой сосед молчит, он, кажется, умер.
— Кто умер? Я умер? Осёл! Я только немного буду хромать!
— Потише! Уитмен, возьмите третьего слева, — шепнул дежурный, — он, кажется, и в самом деле умер.
— Уитмен! Ещё воды в операционную!
В госпитале не хватало ни корпии, ни бинтов, ни коек. Раненых везли целыми поездами. Здесь были обмороженные, простреленные, распоротые. Некоторые умирали, дожидаясь очереди на перевязку. Операции шли и днём, и ночью, иногда при фонарях.
— Уитмен! Смерьте температуру шестому во втором ряду!
— Уитмен! Подойдите к кавалеристу у окна. Он боится операции.
— Уитмен! Ступайте к белобрысому немцу. Ему отняли обе ноги.
— Что я должен с ним делать?
— Напишите ему письмо. Не забудьте добавить, что он скоро вернётся домой.
Когда Уитмен писал «Листья травы», он думал о них. Это столяры, штурманы, китобои, охотники, фермеры, наборщики, машинисты, возчики, маляры, гуртовщики, рыбаки; это иммигранты всех наций — шотландцы, ирландцы, голландцы, шведы, немцы, венгерцы, итальянцы; это метисы, мулаты, негры, креолы… Они все «листья травы» — не яркие оранжерейные цветы, а простая трава, которую никто не сеет. Она буйной зеленью покрывает землю после каждого дождя, она сила природы, она не боится смерти и мучений, она побеждает смерть.
Уитмен был одинок. Но он никогда не страдал от одиночества. Он любил людей, всех людей без исключений. Он любил их самих, их шумливых детей и внуков, их ворчливых дедушек и надоедливых бабушек. Он любил всю Вселенную. Он любил её будущее.
Когда мы овладеем планетами и всеми этими шарами Вселенной,
И всеми их усладами, и всеми познаниями, будет ли с нас довольно?
И моя душа сказала: «Нет, этого мало для нас,
Мы пройдём мимо и дальше…»[13]
Он подошёл к окну, похлопывая рукой об руку, чтобы согреться.
По улице ехал президент. Медленной рысью шёл его широкогрудый и тонконогий серый конь. Справа от него находился лейтенант с жёлтыми нашивками на рукаве и с обнажённой саблей на плече. С левой стороны на низкорослом пони двигался мальчик лет девяти с очень подвижным лицом. Позади длинной колонной по двое ехали кавалеристы из охраны Белого дома, все с жёлтыми полосками на мундирах и с саблями на плечах.
Линкольн был в чёрном помятом сюртуке и высоком цилиндре. Увидев широкие плечи Уитмена в окне церкви, он улыбнулся, и морщинки на его резко очерченном, коричневатом лице задвигались.
Он приподнял цилиндр и кивнул головой. Уитмен поклонился и помахал ему шляпой.
У Линкольна был глубокий, хотя и неуловимый, ускользающий взгляд. В нём словно дремала затаённая мысль. Уитмен долго смотрел ему вслед.
«Это один из наших, — думал Уитмен, — но его занесло на высокую вершину, где он стоит, как часовой, наедине с тучами и видит всех нас».
Цокот копыт затихал в отдалении. На улице не было оживления. Прохожие, придерживая руками запахнутые воротники и ёжась от холода, спешили по своим делам.
«Он знает труд и бедность, — думал Уитмен, — он судит аристократов, как наши предки в Европе судили когда-то королей и дворян. Хотел бы я увидеть их растерянные, надменные лица! Вот едет судья, но он не король и не деспот, он из наших. Он не любит звонких слов. Его слова просты:
«Труд важнее и самостоятельнее, чем кажется. Капитал есть только продукт труда; капитала не было бы, если бы раньше не существовал труд. Труд выше капитала»…
«Нет, это не проповедь, — думал Уитмен, — это трудная вахта над бушующим морем, вахта в помятом и мокром мундире, с биноклем в руках. У всех нас, как у моряков на корабле в шторм, — одна душа, одна мысль о будущем…
Зачем я стою здесь и любуюсь одним человеком? Там лежат воины…»
— Уитмен! В операционную!
Уитмен оторвался от окна и пошёл, тяжело ступая большими ногами по холодным каменным плитам церковного пола.