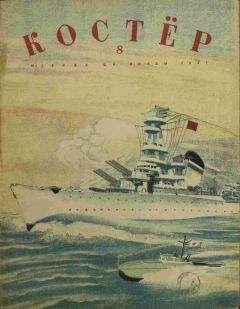Иван Супрун - Егоркин разъезд
После этого куплета гармонист опять замолчал и наклонил голову. Замолчала на этот раз и гармошка. «Значит, песня вся, — подумал Егорка. — Полежит солдат немножко в лазарете, заживут его раны, и поедет он домой».
Но что такое! Гармошка снова издала ту же унылую мелодию, гармонист запел:
Вдруг сестрица встрепенулась,
Всполошилася она,
И к больному обратилась
Милосердная сестра:
«Что тебе, солдатик, нужно
Или пить тебе подать?».
«Ничего, сестра, не надо,
Я уж начал умирать».
«Вот это здорово! Солдат говорил, что ранен не опасно, и вдруг — умирать? Как это так?»
Егорка вскочил на ноги и, никого не замечая, крикнул:
— Неправильно!
— Почему неправильно? — спросил безногий гармонист.
— Солдат должен вылечиться и уехать домой!
Егорка оглянулся, увидев незнакомые улыбающиеся лица, смутился, вырвался из круга и побежал домой.
Когда со станции Протасовка пришел паровоз, Егорка вернулся на лужайку, но там уже никого не было. Около вагона, в котором ехал безногий солдат, толпились люди. Зазвякали буфера, вздрогнули и закачались вагоны: паровоз прицепился к составу и вот-вот должен был дать гудок отправления.
— Спой чего-нибудь на прощанье, — сказал безногому веселый пассажир.
— Сейчас сварганю. Слушайте и запоминайте, господа хорошие. Очень интересные дела творятся на божьем свете, — безногий солдат, лихо рванув гармошку, весело пропел:
Гришка и Сашка
Сидят за столом,
А царь Николашка
Пошел за вином.
Расея, Расея!
Ах, жаль мне тебя…
Вечером Егорка сказал отцу:
— На божьем свете творятся интересные дела.
— Что ж это за дела?
— Гришка и Сашка сидят за столом, а царь Николашка ходит за вином.
— От кого ты об этом слышал?
Егорка рассказал про безногого солдата и спросил:
— А кто такие Гришка и Сашка?
Отец ответил:
— Сашка — это царица, а Гришка — царев друг. Но ты вот что запомни: петь эту песню нельзя, за нее могут арестовать и посадить в острог.
— А если не петь, а рассказывать тихим голосом?
— И тихим голосом нельзя.
— А думать про это можно?
— Думать можно про что угодно.
СОЛДАТ ШАТРОВ
Шатров приехал ночью. Первым его увидел стрелочник Лукьянчиков. А получилось это так. Прошел товарный поезд. Лукьянчиков закрыл семафор и, возвращаясь от подъемного рычага в будку, заметил человека: он стоял в полосе света, падающего от стрелочного фонаря. Сначала Лукьянчиков подумал, что это Федорчук или сам начальник разъезда — кроме них, прийти в такую пору на стрелочный пост некому, — но, приглядевшись, понял, что ошибся: Федорчук и Павловский были высокого роста, этот же человек низенький. Лукьянчиков заспешил, но не успел сделать и десяти шагов, как человек вдруг исчез в темноте. «Кто же это такой, чего ему надо?» — забеспокоился Лукьянчиков и зашагал еще быстрее. Через несколько секунд человек снова появился. Только теперь он находился не около стрелки, а, припав к освещенному окну, заглядывал в будку.
— Кто такой?! — крикнул Лукьянчиков.
Незнакомец не ответил, шагнул от окна и снова растворился в темноте.
— Кто такой?! — повторил Лукьянчиков.
— Свой, не бойся! — донесся из темноты резкий, незнакомый голос.
— Чей свой? Чего прячешься? — Лукьянчиков приблизился к будке.
— А ты отгадай!
— Такого голоса не слышал.
— Тогда узнавай по обличью.
Человек вышел из темноты на свет.
На незнакомце все было солдатское: длинная помятая шинель, высокая серая шапка, сапоги, в левой руке сундучок, правая засунута в карман шинели.
«Однако Шатров! — пронеслось в голове Лукьянчикова. — Но нет? Шатров носил широкую бороду и усы, говорил не громко».
— Не признаю, — мотнул головой Лукьянчиков.
— А Шатрова помнишь?
Солдат поставил на землю сундучок и протянул руку.
— Никита Аверьянович! — Лукьянчиков кинулся к Шатрову.
— А я-то думаю, кто такой крутится около моей будки.
— Кручусь потому, что не знаю, как быть: то ли задержаться и расспросить, то ли без остановки идти по старому адресу.
— А мы тут не раз вспоминали тебя. Письмо твое зимой читали в бараке скопом. Ждали — пришлешь еще весточку, но ты как в воду канул: ни семье, ни нам. Пошли в будку! Там отдохнешь малость с дороги и расскажешь. На побывку или как?
— Какая там побывка! — Шатров взмахнул пустым рукавом. — Видишь?
Лукьянчиков молча кивнул.
— А рассказать я тебе и всем расскажу, но не теперь. Сейчас надо… — в голосе Шатрова послышалась тревога. — Скажи, как тут моя семья?
— Да ты вот что, Никита Аверьянович, — торопливо начал Лукьянчиков. — За семью шибко не печалься. Смертей у них не было. Сама-то работает сейчас в ремонтной артели. Петька живет в Левшиной, в работниках, а Настя недавно уехала в Протасовку, пристроилась в прислуги к каким-то господам. Очень туго было зимой, когда были все вместе.
— Да… — задумчиво протянул Шатров. — А конь?
— Его она продала еще прошлой осенью за три пуда муки.
— За три пуда?! А ведь мне-то зимой писала, что работает на коне: так же, как когда-то и я. Дела… А я надеялся…
Хотя Шатров и не сказал, на что он надеялся, но Лукьянчиков понял — на коня — и уставился на пустой рукав. «А зачем тебе теперь конь? Разве сможешь ты, однорукий, работать на нем?» — говорил его взгляд.
Шатров понял Лукьянчикова, покашлял, будто запершило в горле, сказал:
— Плохо…
— Плохо, Никита Аверьянович, у всех, не у тебя одного.
— Знаю. Только у таких, как я, хуже плохого. Куда я теперь: ни работать, ни стрелять.
— Аль не надоело стрелять?
— Надоело, да еще как, но стрелять, однако, еще придется. Ну ладно, об этом после поговорим.
Шатров поднял с земли сундучок, попрощался и зашагал.
— Так ты того, Никита Аверьянович, приходи, будем ждать! — крикнул ему вслед Лукьянчиков.
— Непременно приду, завтра вечером, в барак, — донеслось из темноты.
* * *
Народу в барак набралось полным-полно: сидели на скамейках вокруг стола, у стен на топчанах, а некоторые — прямо на полу. Егорка с Гришкой устроились на печке: здесь хотя жарко и душно, зато все хорошо видно.
…Шатров вошел в барак, поздоровался, окинул взглядом стены, улыбнулся:
— А у вас все по-прежнему: тишь, гладь и божья благодать.
— Переменам, Никита Аверьянович, быть не от чего, — ответил Антон Кондратьевич Вощин. — Над нашим окопом еще ни одна бомба не взрывалась и, надо думать, не взорвется.
— Погодите малость, взорвется и тут, — пообещал Шатров.
— Э-э, нет, не стращай, не боимся, — заспорил шутливо Антон Кондратьевич. — До нас от позиции тысячи верст. Сто лет нужно немцу, чтобы дойти до этих мест.
— Так ведь к вам сюда надо запустить не немецкую, а нашу, русскую бомбу, и не ту, что убивает и калечит людей, а ту, что взрывает души, — ответил, не переставая улыбаться, Шатров.
— Это ты здорово сказал, — одобрительно отозвался Тырнов и дотронулся до груди Шатрова, — Пойдем-ка, Никита Аверьянович, за стол. Ты у нас нынче самый почетный гость. По обычаю надо бы угостить тебя водочкой, да вот беда, нет ее у нас. Будем угощаться разговорами.
…И вот сидят они, взрослые, за столом и «угощаются». Набивая трубочку табаком — вертеть «косушку» одной рукой неудобно — Шатров говорит:
— Пока добирался до дому, спрашивал меня не один человек, и вам, думаю, тоже перво-наперво хочется узнать — скоро ли окончится война.
— Так ведь это самое главное, — замечает Тырнов. Ты вот сказал, что у нас тут «тишь, гладь да божья благодать». Бомбы над нами не рвутся — это верно, но и жизни нормальной, человеческой нет. Раньше тоже не сладко жилось, но все же… А теперь? Эта проклятая война, как голодная собака, все пожрала… ничего не стало, и наш брат по городам и деревням живет впроголодь. Единственное, чего стало много, так это вдов, сирот да вот таких, как ты, искалеченных.
— Да, да, так оно и есть, — подхватывает Антон Кондратьевич. — А почему? Да все потому, что подкачали наши генералы, не сумели спервоначала так лупануть, чтобы пух полетел из них. Так я говорю, Никита Аверьянович?
— А кто это такие они? — спросил Шатров.
— Уж ты-то об этом знаешь лучше моего, поди, не раз встречался с ними: немцы, австрияки, итальянцы разные.
— Спасибо, Антон Кондратьевич, за ответ. Я тебя понял. Ты так думаешь: соберутся немцы или австрийцы в своих деревнях да городах вроде вот так же, как мы сейчас, и решают, нападать на другую державу или не нападать.