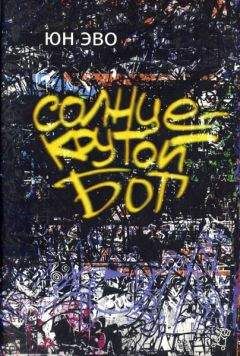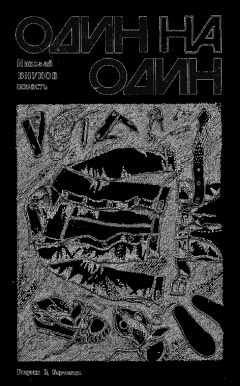Геннадий Михасенко - Я дружу с Бабой-Ягой
Действительно, только нос и уши, да и те грубые — топорная работа, халтура! Видно, и у моря не все получается. И я бросил художество в костер.
На соснах с подветренной стороны мыса сидела бойко перекаркиваясь, стая ворон. Они прижились у лагеря, подкармливаясь отбросами из помойки за камбузом, и сюда прилетали пить. Не верилось, что эти большие, глянцево-черные, угловатые птицы вывелись когда-то из маленьких, белых и круглых яичек.
— Есть хочешь? — спросил я.
— Нет.
— А то могу ухой угостить.
— Ухой? С удовольствием! А где она?
Я сделал руками таинственные пассы и полез в шалаш. Несмотря на неряшливое покрытие там было совершеннно сухо — дядя Ваня знал, видно, дело. Найдя ямку, заложенную широкой доской, я вытащил котелок, прихватил из грязной посуды в углу две ложки и, стуча ими, вылез.
— Оп-ля!
— Ого! А не влетит?
— Нет, разрешено.
Я разогрел уху, вытер ложки о мокрую траву, и мы принялись хлебать прямо из котелка, швыркая мигом ослабшими от горячих паров носами. Котелок был без крышки, и туда, кроме угольков и пепла, нападало хвоинок, коринок и даже комочков земли, — наверно, со стенок ямы, но мы не церемонились. На дне обнаружился окунь, в чешуе. Я отказался. Алька аккуратно, не повредив ни одной косточки, объел его и, приподняв за хвост, сказал:
— Смотри, какой красивый скелет! Хоть на выставку! Даже в объедках есть красота!
— Шкилдессе бы эту красоту!
— Нет, правда. Тоже ведь из моря! Вообще в природе нет безобразного! Будь в моей власти, я бы «Ермак» завалил не коряжками, а корягами, пнями! Знаешь, какие пни попадаются — м-м, закачаешься! Что пни — целые деревья! — воскликнул Алька, а я завороженно смотрел на него, завидуя его непонятной увлеченности. — Я тут нашел три таких шедевра, что хоть сейчас — в музей! С руками оторвут! Не веришь?
— Верю.
— Я их назвал «Три чуда». Первое... А хочешь тоже сюрприз, а? — вдруг спросил он.
— Хочу.
— Пошли! Я покажу тебе первое чудо! Это близко.
— Надо отпроситься.
Мы отправились на пост. Юра с Димкой все еще забавлялись биноклем, но на мою просьбу Задоля ответил :
— Не могу. Подождем мичмана.
— Мичман вовсе не отпустит! Отпустить можешь только ты! — польстил я командиру.
И лесть подействовала.
— На двадцать минут, говоришь?
— Даже на пятнадцать, — поправил Алька.
— А мичман придет — что сказать?
— Скажи — в туалете. Я как раз хочу в туалет. Уж тут-то никуда не денешься!
— Ладно, дуйте!
Чтобы не мокнуть в траве и кустах, мы спрыгнули на размытый берег и по ленте мусора двинулись в глубину соседнего залива, отдаляясь от штормовой зоны.
— А ты заметил, что мы никак не зовем друг друга? — с улыбкой спросил Алька.
— Заметил.
— А почему? — Я пожал плечами. — Это некрасиво. Давай называть. Но как: просто или по-секретному?
— По-секретному — приказ.
— Но я же не юнга.
— Зато на тебе наша форма, товарищ Берта-у-мольберта! — И я впервые дружески хлопнул Альку по плечу.
— Запомнил, товарищ Ушки-на макушке! — И он хлопнул меня.
Мне сразу стало веселее и проще. Альке, наверно, тоже. Он засвистел, а я вдруг прокричал:
Океан от пенных волн
Поседел...
Мы уже на две трети углубились в залив, когда Алька приостановил меня и показал рукой.
— Мое первое чудо! «Каторжник»!
Метрах в трех от воды грузно восседал огромный пнище, распластав далеко в стороны мощные полуоголенные корни, опутанные ржавыми цепями. Чистый каторжник! Ведь наши места издавна были ссылкой декабристов, революционеров и других неугодных царю людей. Не вынес какой-нибудь бедняга мучений и превратился в пень, а цепи остались целыми.
— Как? — спросил Алька.
— Да-а!.. А где второе чудо?
— Выше.
— Покажи.
— Не уложимся в срок.
Уложимся. Оттуда бегом.
— Ну, пошли.
Склон был крутым, с островами кустарника, с пружинистым подстилом мха, хвои и валежника, с частыми деревьями, у которых ветки топорщились лишь наверху, а ниже, как у занозы, торчали во множестве отмерзшие сучья — так и повыдергал бы. Мы двигались напрямик и сразу промокли. Комар наседал. На краю большой круглой поляны Алька остановился и кивнул на мощную лиственницу посредине.
— Чудо номер два! «Трезубец»!
Вершина дерева высохла, чем-то пораженная, но из основания сухоты, точно по бокам, выросли две новых вершины, зеленые,— лиственница как бы подстраховала себя на случай, если еще одна макушка погибнет. Обе уже догнали свою мертвую сестрицу, и дерево выглядело чистейшим трезубцем.
— Как? — опять спросил Алька.
— Здорово!
— Построить бы такого Посейдона, которому был бы как раз этот трезубец!
— М-да!.. А третье?
— Еще выше. Почти на горе.
— Э, была ни была! Бог троицу любит! Айда!
Чем выше мы поднимались, тем лес становился ниже и гуще. Густело вокруг нас и комариное облако, так что казалось, не сами мы идем, а комары нас затаскивают на гору. Глаза мои вдруг начали искать по сторонам какую-нибудь ямку или коряжку. И правильно. Я не шутя сказал Мальчику Биллу, что хочу в туалет. Но там я хотел лишь в начальной стадии, а тут я понял, что до третьего чуда мне не продержаться, а если и продержусь, то мне будет не до чудес, или произойдет четвертое чудо. Заметив сбоку заманчиво задранный корень, я спросил Альку:
— Скоро?
— Вот-вот. Минуты три.
— Ну, ты иди, Берта.
— А ты?
— А я это... я догоню!
— A-а, ладно, — понял художник. — Я свистеть буду.
И насвистывая, он скрылся в сосняке, а я бурундуком юркнул под корень. Дело вроде минутное, но когда я выскочил обратно, свиста уже не слышалось — Алька умахал. Я припустил следом, тоже присвистывая и радуясь тому, что вот теперь чудо восприму с должным вниманием.
— Берта! — окликнул я, почувствовав, что должен бы уже догнать художника. — Берта, ау-у! — Но мне отозвался только ветер в вершинах.
Может, он спрятался? Нет, мы же горим со временем, и он беспокоится об этом больше меня. Но на всякий случай я сбегал, заглядывая за кусты, немного вправо и немного влево и покричал еще. Может, я проскочил третье чудо? Нет, ведь он сказал, что оно почти на горе, а пока идет склон, значит, наоборот, надо взять выше. Я поднялся еще и вдруг наткнулся на странную сосну — толстую, невысокую и сухую, с плотно прижатыми к стволу немногочисленными ветками. Дерево было так скручено, что аж потрескалось, словно воздух был для него твердым, и ему приходилось когда-то ввинчиваться в него. Прямо штопор! Я сообразил, что это и есть третье Алькино чудо.
Но самого Альки не было. Если он задержался по тому же делу, что и я, то пора бы справиться. Повертев головой и поприслушавшись, я уже с беспокойством прокричал:
— Бер-та-у-моль-берта...
— ...а-а! — отозвалось эхо.
Мне стало жутко. Я не знал, что думать и что делать. Хорошо хоть дорога назад известна — строго вниз, к заливу. И я было ринулся, но словно запнулся при мысли — а что скажу Задоле и как объясню, почему вернулся один?.. А может, Алька уже там? Может, мы разошлись? Нет, без меня он бы не ушел! Я ведь жду его! А раз его нет, значит... значит, случилось что-то серьезное! Мигом в моем уме воскрес медведь, и я, не помня себя от страха, понесся вниз.
22
Я взял левее, оставляя в стороне все чудеса, и летел сломя голову. Первое, что я спросил, еле переведя дыхание у Задоли, который благоустраивал наше сторожезое гнездышко, было:
— Алька здесь?
— Нету. А что?
— Пропал он!
— Как пропал?
— Исчез!
Я без особых подробностей рассказал командиру о нашем походе. Не по-командирски разинув рот и часто моргая, он выслушал меня и вдруг упрекнул:
— Приспичило тебя! А может, плохо искал?
— Мы не в прятки играли, чтобы полдня искать!
— Хм, надо сигналить, — озабоченно заключил Задоля и в три приема поднялся на ноги. — Баба-Яга, на пост!
— Иду! — отозвался от шалаша Димка. — Тут вода в коряжках выкипела! Отставить?
— Отставь!
И тут же донеслась Димкина песенка:
Вот сейчас я тут найду
Синюю поганочку,
Изрублю ее в куски.
Чтобы кто-нибудь не съел!
— Живей, синяя поганочка! — поторопил Юра.
— А, путешественники прибыли! — улыбнулся Димка, появляясь из кустов с прутом.
— Не путешественники, а путешественник! — поправил Задоля. — ЧП у нас! Художник сгинул!
— Как?
— А вот у него спроси! Я как чуял — не хотел отпускать! И мичману сказал, что ты в туалете, а теперь что? Теперь вранье, значит! Значит, командир ваш не только тряпка, но и врун! Ну, ты даешь, Ушки-на-макушке! — разволновался Мальчик Билл, поняв истинное положение лишь сейчас, словно мысль долго блуждала в лабиринтах его пара графического тела. — Где флажки?
— Вот! — сказал я, хвать — а за голенищем пусто. Черт! Вылетели!