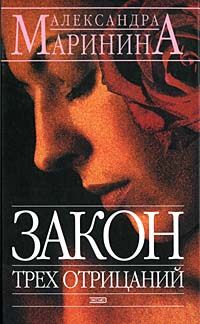Герман Балуев - ХРОНИКЕР
— Ниче, а? — сказал Куруля.
Из-за леса на перекате холодно и ярко ударило солнце. Куруля пощурился на него, суетно закурил.
— Сашка-то из нас, Курулиных, самым умным, думаю, был... И вот ведь гадство! — сказал он скороговоркой и посидел неподвижно.
Донеслось хлопанье плиц идущего из Астрахани скорого. Сам он был еще за перекатом, а плицы шлепали так отчетливо, как будто он был уже тут.
И содрогаясь от того, с какой внезапностью остановилось время Сашки Курулина, для которого уже не будет ни алой Волги, ни поднимающегося над перекатом громадного солнца, Лешка отчетливо чувствовал свое бессмертие.
Из шалаша выползли, сливаясь с берегом своим обесцвеченным тряпьем, Пожарник, похожий на бычка Федя, Крыса и еще двое каких-то из новых, имени которых Лешка не обязан был знать. С помощью ладони пустив звук над водой, он крикнул, чтобы готовили чай. На берегу засуетились, оживляя костер.
— Слушаются? — без обычной своей ухмылки спросил Куруля.
— Слушаются, — хмуро ответил Лешка.
— Герой! — помолчав, бросил Куруля.
ЗИМНИЕ РАДОСТИ
урулю они нашли под лестницей. Он там сидел в темноте и плакал, оплакивал давно уже погибшего брата Сашку.
— Чего так-то?
— А жалко стало.
— Пойдем петли, может, проверим?
— А чего?! Можно. Сейчас берданку только возьму.
Куруля взял берданку, Лешка свой расточенный под двадцать второй калибр карабин, а Федя Красильщиков не взял ничего — какой из него охотник?! Вот силач — это точно. Каждый день упражняется с гирями, а зачем? Сперва все хотел побить Курулю. А теперь-то что? Друзья ведь? Друзья. А все равно отстать не хватает духу. Растит мускулы и растит. Ну и ладно. Может, котельщиком будет. По заклепкам станет шарашить кувалдой. Так, Федя?
— Нет, — сказал Федя, — я теперь размышляю над тем, как спасти человечество.
Ну дает Федя!
— От фашистов, что ли?.. Так уж, считай, что спасли!
— Нет, — сказал Федя. — От жадности... Ведь все от жадности. Все беды и войны, я думал, думал и понял: вот от чего. Ведь не просто воюют, чтобы побить, а чтобы хапнуть чужого. Не так, что ли?
— Ну и Федя! Вот умный, черт!
Его, дурака, чуть из школы не выперли: в задачки ныряет, чудак, как в прорубь. Вынырнет: «Как же так?! Есть более корректное решение, вы не находите?» Это он Алевтине Викторовне, математичке. Та на дыбы или в слезы. Она по случаю народного бедствия стала учителем; в учительский институт с грехом пополам поступила. А он ей «корректное решение»... Ну и фрайер! Вот уж действительно, таких надо гнать. И самое кошмарное для Алевтины, что у него-то все на полном доверии. Ему о том, какой он мерзавец, а он глаза голубенькие правдивые вскинет: «Но как же так: ведь А плюс В...» Умора!.. Вам бы такого друга иметь!
— Не... Ты чего-то не того, Федя, — подумав, сказал Куруля. — Ну кака така у нас жадность? Где ты жадных у нас видал? У нас их нет!
— А Рыбин?.. Утром в черных брюках пришел, а к вечеру, смотрю, вышел в серых... Зачем ему двое брюк?
Рыбин был эвакуированный из Ленинграда племянник аптекарши, десятиклассник, отличник, чернобровый, румяный, рослый, вежливо-сдержанный. Он первым за всю историю затонской школы надежно шел на золотую медаль.
— А ведь точно. Вторые штаны завел.
— Вот сволочь!
— А на него-то глядючи другие разве не захотят?.. А если кто, допустим, как мы, не имеет возможности? Таким-то что же, выходит, делать?.. Отнять или украсть?.. А дальше —больше! Вот те и злоба. Глаза завидущие: давай да давай! Как мы в таком мире жить будем, зачем? — солидно рассуждал Федя.
— Ну уж ты, Федя... — сказал Куруля. — Война кончится — люди, знаешь, сколько радостью будут умываться?.. Что ты!.. Я думаю так: лохмотья почистят, в вошебойке прокалят, со щелоком выполощут — и думать об этих делах забудут... Скоко всякой радости на свете, а ты нам о поганых штанах!
— Федя пессимист!
— Нет, ребята, — покачал головой Федя. — Просто беспокоит меня человечество.
Они прошли леском дубовым, что мрачно стоял в снегах между Заводским поселком и Пьяным, а оттуда сразу вильнули к Яру, чтобы не мозолить боевым оружием чужие глаза. Хотя, конечно, пока терпят, понимают, что с этих берданок люди кормятся. Ну, да все равно: лучше лишний раз поберечься, чем ходить потом дураком.
Дней десять с осени чекушили рыбу, то есть били ее колотушкой сквозь лед. Веселое дело: лед свежий, жиблится, проминается под ногой. У берега рыхлый, а перескочишь — ничего, держит. Пищит только, потрескивает, бежит перед тобою волной. Поначалу даже оторопь: струи под ногами свиваются, идешь над водами, как Христос. Но потом — ладно: ввалишься — вытащат! Тут ведь важно, кто рядом. Куруля? Федя Красильщиков?.. Дуй без сомнения: эти спасут.
Ну, а теперь Середыш замело снегами. А Бездну и вообще превратило в белое корыто. Одни тальники усами торчат.
Они перескочили Бездну и пошли лугами. Было еще не поздно, но уже темно. За чернолесьем мельтешила нежная молодая луна. Километра через два свернули с санной дороги: тут по корявым кустам, по овражкам стояли на зайцев сталистые петли, свисали чутко, не трогая снега. Измызгались, лазая в снегу, взопрели: ничего. Все кругом зайцем истоптано, излежано, изрыто. А петли пусты.
— Это че же делается-то? — сплюнул Куруля.
И тут фукнул из темных зарослей заяц. Куруля ахнул по нему навскидку. А Лешка, как всегда, на секунду словно забылся, а потом черная кровь азарта ударила в голову и, проваливаясь по пояс, он погнался за зайцем. Хрипя, проломился через кусты, съехал с сугробом и оказался снова на льду Бездны, вскарабкался по крутому обрыву, опомнился: шуршит желтой, торчащей космами из снега травой болото. А от зайца лишь след рысистый остался. Здоровый был заяц. Порол, словно конь.
— Ну, че? Где заяц-то? — спросил, когда он вернулся, Куруля.
— Не догнал.
Куруля и Федя захохотали.
— Ну и Леха!
— Вот это артист!
Ночь держалась в кустах и по горизонту, а в лугах было светло, отчетливо. И отчетливо шевелились султаны охристой высокой травы.
Наши снова вышли в луга и направились к Камочке, которая в районе Переволок вытекала из Волги, а через шесть километров опять совалась в Волгу и пропадала в ней. Камочка бурлила в глинистых отвесных берегах через чащобу. Светлокожие тополя смыкались кронами над серединой реки. Дойдя до этих тополей, пацаны увидели внизу похожую на белый затененный тоннель Камочку. А за ней и как бы над ней глыбилась лесная громада острова Теплый. Над слившимися в одно темное зарослями свободно реяли громадные березы и вязы. Их кроны угадывались по налипам снега и были гуще, чем небо, темней.
— Что-то есть захотелось, — пошутил Федя.
— Это точно!.. Еще три года назад!
— Смотри-ка! — сказал Лешка. — На вязах!..
— Глухари! — прошептал Куруля.
Лешка шепотом подтвердил:
— Вроде бы так!
Они скатились под обрыв.
Федю оставили, чтоб не мешал, и, продравшись сквозь кусты, поползли между островами желтой, с метелками, высоко заметанной снегом травы. Глухари, как вороньи гнезда, темнели в черной путанице кроны; ближайший — на вершине громадного тополя. Когда до него оставалось метров тридцать, глухарь шевельнулся и вроде бы завертел головой.
— Давай сади! — прошептал Куруля.
Лешка жахнул с колена картечью. Вокруг глухаря посшибало снег и ветки, а сам он, помедлив, грузно сорвался, слегка опал и полетел между деревьями, как черная шапка. Вслед ему высунула пламя берданка Курули. Летели снег и веточки сверху, дымились и тлели шагах в десяти пыжи. Остальные глухари тоже снялись и улетели в темноту.
Куруля сплюнул.
— Пулей надо бы его ковырнуть, — сказал Лешка. — Да разве попадешь?! До него метров семьдесят было. Да еще темно!
— Во птица! — сказал Куруля. — Картечь не берет.
Закурили с досады.
— Поохотились!.. — сказал Лешка. — Ни зайца, ни че!
Помолчали.
— А ты знаешь, что я углядел на Камочке-то, а?.. Морды!
Лешка подумал.
— Проверим, что ли.
Куруля вздохнул:
— Придется.
По своей же рытвине пошли обратно, спустились на Камочку. Она с напряжением бурлила и булькала подо льдом. Чувствовался волжский напор. Это было устье Камочки. В проран виднелась снеговая ширина Волги, за серединой которой стеной стояла мглистая зимняя ночь.
Прекратили разговоры, прислушались. Но ничего сомнительного не было слышно. Лишь с шорохом ссыпался снег с потревоженных ветром ветвей. Куруля махнул рукой, и они побежали к вмерзшим в проруби кольям. Лешка валенком пощупал в проруби лед.
Дня два не трогали: должна быть рыба, — шепотом сказал Лешка.
— А это чьи? — спросил наивный Федя.
— Наши, Федя, наши! — своим длинным ртом усмехнулся Куруля. — Ты давай-ка посматривай по сторонам.
Обкололи прикладами ледок и, пересиливая течение, выволокли из проруби мокрую сплетенную из прутьев морду. В ловушке ее возилось несколько черных больших налимов.
— Эх, копаешься! — Отстранив Лешку, Куруля пал на колени и зубами развязал ремешок плетеной же крышки.