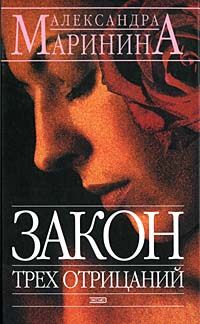Герман Балуев - ХРОНИКЕР
— Эх, копаешься! — Отстранив Лешку, Куруля пал на колени и зубами развязал ремешок плетеной же крышки.
Налимов вытряхнули, и они вяло шевелились на снегу — мутно-пятнистые, склизкие, метровые рыбины.
Лешка метнулся к берегу, выломал тальничину с рогулькой, и они с Курулей быстро нанизали рыбин на этот хлыст. Пока они этим занимались, навалился верховой ветер, деревья на материковом берегу густо зашумели, косыми занавесями с них полетел снег. А когда стихло, с луговой дороги явственно послышалось позванивание пешни, которую кто-то волок на веревке.
Метнулись глазами — куда? С обеих сторон заваленные снегом обрывы. Бежать в сторону Волги? Так отсюда видно, как парит черная, преграждающая путь промоина. Вверх по Камочке, к тому месту, где они поднимались на Теплый? И далеко, и по открытому — бр-р-р!.. Побежали по Камочке. Куруля волочил на пруте налимов. Нырнули в снег, наметенный за черной корягой. Провалились в него по пояс, пригнулись, впились глазами в материковый берег: куда его черт с пешнею несет?!
Утишив дыхание, услышали и тут же увидели, как черная кряжистая фигура в полушубке и в чесанках спускается по дороге на Камочку. Мужик подошел к брошенной на снегу морде, постоял, озираясь, и пошел по их следам. Над плечом его — теперь явственно было видно — торчал ружейный приклад. Его приближающаяся фигура была видна отвратительно ярко.
Секунд десять они зачарованно смотрели, как идущий приближается к ним. Затем настало то крайнее мгновение, когда всем существом, самой кожей они почувствовали, что надо либо стрелять, либо бежать. И в тот же миг оказались бегущими — сперва под обрывом, но тут снег был тяжелым, и уже с пятого шага они вынеслись на ярко-белую середину Камочки. Помедлив, в спину им ахнул и прокатился, обогнав их, выстрел. С веток над рекой сорвался и повис кисеею снег. Леша и Куруля привычно покосились: как товарищи? топают? живы? Но все трое бежали исправно. А Федя, так тот даже волок окоченело скользящих за ним по снегу налимов.
За поворотом они остановились, посмотрели друг на Друга.
— Екаламене! — сказал Куруля. И они беззвучно расхохотались: такой у них у каждого был деловой озабоченный вид. — Хорошо пробежались, в охотку! — ласково болтал, морща старушечье лицо, Куруля.
— А налимов-то всего три осталось! —сконфуженно прошептал Федя. У него, у чудака, такая была манера: он смотрел на тебя сначала доверчивыми васильковыми глазами, а потом уж начинал стеснительно что-то шептать.
— Хоть три, а все же не бросил, — прищурился Куруля. — Придется нам тебя уважать.
Они вспомнили о гнавшемся за ними мужике, прислушались и, не мешкая, полезли на остров Теплый.
Летом этот остров за версту источал запахи перезревших ягод. Даже и сейчас, зимой, здесь было как-то терпко, глухо, уютно. Чащобные кусты заслоняли от ветра. Среди орешника, смородинных и ежевичных зарослей обнаруживались прелестные, исписанные следами мышей полянки. Расклеванные снегирями, синичками, клестами, рябчиками, тетеревами, глухарями ягоды шиповника и набухшие во время оттепели почки виднелись там и сям на снегу. Чуть слышно шуршали заросли озаренного луной камыша. Кое-где был наст, и наши старались идти по нему. Они шли через заметенный почти до верхушек тростник, когда он внезапно взлетел, взорвался. Трое остолбенели, глядя, как сугроб с громким треском и хлопаньем перемахнул за кусты и скрылся во тьме.
— Тьфу! —сказал Куруля, опомнившись. И Лешку поддел: — Охотничек!.. Стая куропаток снялась из-под ног, а он стоит себе со своим винтарем!..
У Лешки от запоздалого азарта ослабели руки и ноги.
В уютной чапыжине, за поваленным деревом, утоптали снег, разложили костер. В красном отблеске жарко вставшего пламени Лешка углядел, что со спины полушубок Курули издырявлен дробью.
— Во, гадство! — взвыл Куруля, раздевшись. — Как решето, а?.. Ну скажите, не гад?
— Ладно еще самого не достало, — солидно заметил Федя. — А то — лучше бы, что ли, было?
— Самого!.. — ощупывая дырки, плаксиво сказал Куруля. — На самом бы заросло! А это? Зарастет, что ли? — Сердито сунул он воняющий мазутом полушубок под нос Феде. — О, гад! И сапог испортил! — Он стянул кирзовый сапог и выкатил из него дробину. — А я думаю, чего это там колет?! — Он покачал головой, сплюнул и накинул полушубок на плечи.
Они посушили, оберегая от искр, портянки, сапоги и валенки. И в гретой обуви почувствовали себя хорошо, уютно. Никакой дом не мог для них сравниться с этим лесом, островом, сухо бьющим в небо костром. Никогда затем у них уже не возникало поразительного ощущения, что ничего больше не надо и что они здесь свои.
Когда нагорело, Федя закопал в рдеющие угли своих налимов. У каждого было по куску хлеба, у Лешки и у Феди по луковице, а у Курули в жестяной коробочке соль.
— Че еще надо?! — завалившись на затрещавшую и пружинно осевшую под ним кучу сушняка, горестно сказал Куруля. И вздохнул о погибшем брате: — Эх, Сашка!.. — Помолчал, глядя на огонь. — Эх, Веня Беспалый!.. Эх, Саня Григорьев!.. Эх, Генка Жабин!.. — Он поименно вспомнил всех погибших. — Во война-то, а? Ведь половина нас осталась.
Федя, озабоченно посапывая, выволок из углей разваливающихся от спелости, аппетитно подгорелых красной корочкой рыб, навалил нового сушняка, чтобы веселей сиделось; костер ударил столбом. И-эх, вот это жизнь!
— Так давай, расскажи, чего это ты за человечество-то так забоялся? А, Федя!
— Цели у него нет.
— Вот Федя, уж скажет, так скажет!
— Я пришел к выводу, что придется мне ученым, пожалуй, стать.
Лешка посмотрел на Федю с уважением, а Куруля засмеялся:
— Не пойму конторских: чего живут?! Копаются в бумажках, а кто заставил?!. Зачем, чего они эдак? — Он покачал головой и задумался. — Нет, нельзя нам так. Не для того мы, брат Федя, выжили. Да и ничего, Федя, у тебя не выйдет, — решил он. — Раз глотнул ты, друг, вольной жизни, какой из тебя червяк?!. Вон из Рыбы... — я допускаю!
— Еще наплачешься! — ворчливо заметил Лешка. — Он уже в университет захотел, Рыба-то. Объявил, ага! Теперь что? Станет знаменитым, и заставят его именем назвать поселок. Был Воскресенский затон, станет Рыбная слобода.
— Ну, Леха! Ты гений! — затрясся в старушечьем смехе Куруля. — Ты его понял, Федя? Во шутник, а?.. А я давно заметил, что не простой ты человек, Леха. В лес ты смотришь, потому что волк!
— А ты не волк?!
— Ну вот, обиделся. А зря! О чем ты думаешь? Почему мы не знаем?.. Значит, не хочешь, чтобы мы знали, так? Значит, не простые в твоем калгане, а волчьи мысли... Так, что ли, Федя?.. Хар-роший Федя!.. — Он забывчиво сунулся, чтобы нахлобучить Феде на физиономию шапку, но тут же был наказан: Федя перехватил сухую длинную Курулину руку и деловито стал ее жать. — Ну-ну, ты руки не распускай, сука! Нагулял силы, как клоп, так теперь... — Куруля вырвался, обтер снегом липкие после налима пальцы, сытно отвалился в хворост, потянулся, посмотрел в глубокое черное небо, по которому летели белые хлопья пепла и искры. — Нет, ребя! Какие мысли вы там ни имейте, а мне без этого... — лениво шевельнул он пальцами, показывая то ли на зимний примолкнувший лес, то ли на взмывающие в черноту искры, то ли на все это вместе взятое, — нам без этого, земеля, — прищурился он на Федю, — нельзя.
— Понимаешь, меня увлекает сам процесс познания, — с запинкой, шепотом признался Федя. — Движение мысли за пределы очевидного... Ты понимаешь?
Куруля сплюнул.
— Чего ж не понять?! Только с портфелью-то ходить — ведь взвоешь?
— Это как счастье, — переводя голубенькие глаза с Курули на Лешку, доверчиво шептал Федя. — Попалась мне книга Циолковского, а там все, то есть самое последнее «все». И ведь знают: книга-то напечатана! Почему спокойно живут?! Там так: земля — это колыбель человечества. То есть живем, ждем, пока человечество повзрослеет. А потом — колонизация космоса. Потому что это и есть задача человечества. Для того-то оно и создалось.
— Человечество?
— Ну!
— Здорово.
— А оно свою главную задачу не выполняет, потому-то вот и томится: войны, жадность, хапают друг у дружки...
Куруля усмехнулся:
— Тащат чужих налимов.
— Налимы не в счет! — строго сказал Федя.
— Да я шучу, шучу.
— А когда ж оно, то есть человечество, повзрослеет? — напряженно помолчав, спросил Лешка.
— Уже повзрослело.
— Во дает Федя! Все знает.
— Действительно! Ты-то откуда узнал?
— Фашистов разбили... Дети, что ли?
— А ты смотри: ведь верно! Ну, Федя!
— Ну, допустим... Но как его колонизировать, этот космос?
Федя потыкал прутом в костер, посмотрел на друзей стеснительно:
— Это я хочу взять на себя.
— Боюсь, изменишь, — подумав, сказал Куруля. — Весной запахнет, лодки смолить начнут, дык... эх! — Куруля, захрустев сушняком, вытянулся. — Зачем, скажешь, космос, когда на земле благодать?!
Небо по сторонам казалось белесым, а над костром как бы выгорела черная, заполненная летящими искрами дыра. Слышалось, как возятся в зарослях мыши, как тихо булькает и шуршит нарастающая на Камочке наледь. А когда еще время от времени начинали широко шуметь невидимые в темноте вершины, счастье существования на этой земле становилось почти непереносимым для Лешки.