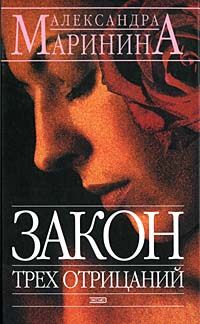Герман Балуев - ХРОНИКЕР
Еще вчера уверенный, что доживает последние дни перед тем, как сложить голову за отечество, сегодня он отчетливо понял, что не успеет до конца войны повзрослеть и таким образом то, к чему он уже приготовился, не будет осуществлено. От сознания, что жизнь ему продлена до бесконечности, он потерялся. Вскинув саркастическое худое лицо, он ковырялся во рту девиц немытыми плоскими пальцами, и во всей фигуре его была издевка; только над кем, непонятно, — над девками или над самим собой? Потерявшись перед длиннотой обнаружившейся перед ним жизни, он стал с лихорадочной, летучей быстротой выискивать в жизни новый смысл, что кончилось его изгнанием из школы, где слишком сильно ощущалось его нездоровое влияние, переводом в ремесленное училище, где тотчас же произошла страшноватая инсценировка повешения одного из ремесленников — Федьки Караченцева, после которой и Федька Караченцев, и организовавший это действо Куруля были изгнаны из РУ. Некоторое время Куруля метлой обшаркивал территорию завода, а потом его взяли в электроцех. Он устроился туда учеником, занялся украшением наиболее прогрессивных девок и вдруг, совершенно неожиданно, увлекся театром, который создала Лешкина мать.
Еще вчера она казалась тенью. Еще вчера ее судьба прихотливо менялась, забрасывая ее, как человека, еще не приросшего к месту и делу, то на вымораживание (постепенную выколку изо льда) вмерзших на зимовке судов, то в обезлюдевший совершенно колхоз «Красные Струги», где ей было приказано сторожить от диверсантов коров и чудовищной дикости племенного быка Гром. Диверсанты в «Красных Стругах» так и не появились, а вот Г ром, в порыве темного бешенства, выдрал цепь и, сокрушая все на своем пути, унесся в поля. Мать, обезумев, побежала за ним, справедливо полагая, что потерю племенного быка могут счесть актом вредительства, и на этот раз лысенький в скрипучих ремнях не отстанет уж от нее. Она бегала за быком по осенним полям, пока силы не кончились. И тогда она легла на сырую землю, а бык, утомившись, вернулся в загон. После этого ее перебросили на ток, на молотьбу и сушку зерна, и она раза два в неделю приходила из «Красных Стругов» в Воскресенск, всегда ночью, с толстыми ногами, насыпав в чулки зерна... Баушка поспешно молола зерно на ручной квадратной лакированной мельнице, и мать задолго до рассвета уходила обратно, — в замызганном навозом и грязью демисезонном пальто, в накрученном на голову шерстяном сером облезлом платке. «Ведь я воровка, Алеша!» — сказала она Лешке, который, забравшись в кузов грязного ЗИСа, нечаянно попал в Воскресенск. Неизвестно сколько — пять или десять раз мать приносила в чулках зерно. Но за эти пять или десять раз она поседела, причем панически, полосато. «Ведь я воровка, Алеша!» — с тихим изумлением повторила она и села, как бы открыв для себя, что их выживание не стоит таких необратимых потерь.
Еще вчера, напав на эту разрушительную мысль, она как бы остановилась во времени. А сегодня это была молодая, задорная, ясноглазая женщина, в которой Лешка узнавал и не узнавал свою мать. Она попала в маляры на достроечную окраску судов, которых вчера еще были бдительно охраняемые и тщательно маскируемые от врага единицы, а сегодня стало множество. Завод приспособился, приноровился, бронекатера пеклись на стапелях теперь, как блины. Весь четырехкилометровый деловой берег реки Бездны коробился железом строящихся на клетках новых судов, барж и понтонов. Буксиры вернули себе привычную бело-голубую окраску, и лишь только десантные суда и бронекатера красились суриком, а затем по-прежнему «дичью». Целая орава маляров — девушек и молодых женщин в тельняшках и заляпанных разноцветными красками брезентовых штанах — переходила с одного корабля на другой, ударно, за один-два дня надевая на красную, как бы освежеванную тушу судна серую кожу шаровой краски и придавая ему скромный, воинский, угрожающий вид. Лешка не поверил своим глазам, когда, лазая по каравану, увидел, как бригадирша маляров, бросив кисть, сорвав с головы косынку, сбацала на гулкой палубе «Семеновну», выкрикивая уличным хрипловатым голосом: «Эх, Семеновна, да ты бедовая! Ах у тя юбочка да нонче новая...» Этой разбитной бригадиршей была Лешкина мать. Откуда что взялось? Никогда он не замечал даже признаков этого обжигающего дерзкого бесстыдства. В какое неуловимое мгновение она так резко, дерзко переменилась? Тесную тельняшечку бесстыдно растопыривало тугое, воспрянувшее в последнее время тело. Лицо ее округлилось, стало румяным, дерзким. Волосы ведьмовски упруго поднялись, сложились в крупные блестящие кольца (потом он усмотрел, что она их завивает), седина сошла (потом он уяснил, что седые пряди она подкрашивает), и вся она, внезапно и необратимо изменившись, приняла буйный, независимый, вызывающий вид. И ясно было, что унесенное в чулках зерно, еще вчера наводящее ее на крайние мысли, сегодня если и вспоминается, то как щекочущий ноздри лихой эпизод. Жизнь, помучив ее, поставила на прочное место, и как-то сразу она стала другой — щедрой, размашистой: подписалась на заем сразу на два оклада, стала заводилой вечеринок вскладчину, в доме появился патефон, гитара: «Гори, гори, моя звезда...» Она рьяно, весело выходила теперь на субботники; ее фамилия и портрет, нарисованный невесть откуда свалившимся в поселок художником, появились на Доске почета; и это последнее было для нее как освобождающий удар грома, как благовест, разогнавший ночные ужасы и оповестивший об открытии жизни. Им дали комнату в доме, который стоял рядом с «большим домом», но ближе к Бездне, — на втором этаже, с окном, из которого было видно так, что дух захватывало, — вдоль Заводской и дальше, навылет: срывающийся вниз заводской берег, красноватый тальник за Бездной, лес, сквозь который белела блескучая Волга, и дальние синие горы, как тучи, как сон. Им привезли с завода снабженные инвентарными номерами кровати, тумбочку, стулья и изрезанный каким-то гадом канцелярский письменный стол, который Лешка сразу же нежно полюбил, может быть потому, что, сидя за ним и глядя в окно, чувствовал себя в рубке корабля, выходящего на простор. Ночью были видны огни проходящих по Волге пароходов. Огни продирались и мельтешили сквозь лес. А весной, когда вода была высокой и суда на Бездне поднимались со своими рубками и палубами выше шлака Заводской улицы, из окна было видно, как на месте, молотя плицами, пробуют машины буксиры, привязанные к стволам могучих осокорей.
Лешка слеп и глох от полноты чувств, от волнения. Все это действовало на него почти непереносимо. Он любил это так, что хотелось бежать от этого или поджечь себя, как бикфордов шнур, и взорвать. Он ужасался тому, что умрет, и тогда некому будет оценить сумасшедшую красоту мира. Он знал, что природа создала его затем, чтобы взглянуть его глазами на свое текучее лицо. Взглянула — и сама онемела от своей красоты. Лешку корчило от одиночества, безъязыкости, немоты. И это было тем более странно, что, заменив обреченного на жизнь и как бы взбунтовавшегося в себе самом Курулю, Лешка был все время со своей шоблой, длинный, ловкий, многозначительный, лениво изрекающий весьма сомнительные истины, — какое уж тут, казалось бы, одиночество и немота?!
Еще вчера они жили с матерью как чужие. И все в поселке, и они сами знали о себе, что — чужие. И вдруг стали свои донельзя, затонские: затон вошел в их кровь. Их комната стала притягательным местом. Бесконечно наезжающие в Воскресенский затон бывшие интеллигентные люди, одетые ныне в форму и погоны ревизоров и военпредов, считали за честь, за подарок провести вечер в обществе «развитой» и пленительной женщины. «Утро туманное, утро седое...» — низким хрипловатым волнующим голосом пела мать, как-то особенно шикарно, артистично вздернув гриф украшенной шелковым алым бантом гитары и взглядывая на каменно дымящего «Беломором» гостя миндалевидными, темнеющими, сумрачно поблескивающими глазами. Период ношения бесстыдной тельняшечки и задорного выкрикивания «Семеновны» быстро и бесследно прошел. Мать носила теперь крепдешиновое, скользкое, с широкими отворотами платье, белый шелковый платок на шее и модельные лакированные туфли на тонком, как ножка бокала, каблучке. Она как-то сразу стала видна, ее назначили начальником малярного цеха, выбрали в завком, и теперь она летала по улицам поселка, озабоченно возбужденная свалившейся на нее, а точнее — порожденной ею же самой общественной работой, для которой она, как стало ясно, и была рождена.
Еще вчера она загораживала своим телом Лешку, пожирающего мокрые куски, а сегодня? «Селедочные» вечеринки, «картофельные» банкеты по поводу гремящих одна за другой побед, спуска судов, выборов, Дня Сталинской конституции, лихие, с гиканьем, тройки зимой, сабантуй летом — с выездом сотен людей на Березовую гриву, к Волге, к пристани: длинные, укрытые белыми скатертями столы под бунтующими от ветра березами, украшенные кумачом грузовики с разливной водкой, картошечкой, «колбой» и неимоверно расплодившейся за годы войны рыбой. Конные состязания, бой подушками на бревне, баянисты, пароходы и — ветер, волжский березовый синий ветер, зачесывающий грядами луговую траву!.. А озеленение и приведение в праздничный, победный вид поселка, когда с лопатами, мотыгами и граблями вышло во главе с директором завода абсолютно все население, а вечером — ставший уже традиционным банкет с тарелками винегрета на крахмальной, ломкой, победной скатерти, гремящий над Заводской голос Руслановой: «Валенки, валенки, неподшиты, стареньки...» Эх, сил нет, как азартно, нетерпеливо, бешено стало жить!.. «Елена Дмитриевна! — поднимается в торце длинного, как след парохода, стола Александр Александрович Севостьянов, худощавый, высокий и плоский директор завода. — Спасибо вам за радость и свет, что вы внесли в нашу жизнь».