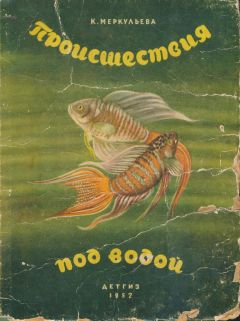Кристина Ятковская - Сыр (сборник)
Кто-то сказал Вале о море, или он сам себе, или сон, или он что-то такое увидел на юбилейной картинке в гугле. Уже не вспомнить, кто это был. Валя смотрит на голубую сахарницу за завтраком, она – море, и он думает, что, наверное, не верит в рай или в ад, а скорее в море, в котором плывёшь или тонешь, и укрываешься им, впадая в сон и не слыша ничего кроме своих ушей, в которые говорит Бог. В этом не было страха, или наоборот, он был слишком большим, чтобы по-настоящему крутиться в голове и мешать прожить следующие шестьдесят лет. Конец света представлялся темнотой и происходил ежевечерней неизбежностью, до тех пор, пока самому дотянуться до выключателя перестало составлять какой-либо труд. Можно делать конец света сколько угодно раз, всё равно, что мальчик, который передвигал стул и смотрел закат. Но куда ему до могущества и злодеяний неуловимой скорости, до засевшего в памяти бессмысленного упорядоченного движения заряженных частиц, таившего в себе что-то, особенно – частиц, почти что «лисиц», можно ли хотеть большего? Ты доломаешь лампу! Опять перегорело. Азбука морса. Валя стучит по стакану ногтями, разделяя мысли на слоги, накладывая слоги на плиточки на стене. Снова гасится свет, но на этот раз не руками: дом потухает, как смытый волной, безгранично сливается с воздухом сплошною чёрною кока-колой. Кажется, что в темноте все могут стать неграми, как если бы кожа вдруг полностью заполонилась родинками, но такого не бывает, такого-то уж точно не может быть. Валя передвигает стул, солнце не реагирует, потому что его нет, но может там по другую сторону оно хотя бы икнёт.
То, что дети вокруг меняются, а он нет, стало понятно не сразу. Валя много смеётся и мало шутит, потом много шутит и не смеётся, или скорее много смеётся и шутит про себя, недоговаривая. На всё прибавляющиеся сантиметры роста нанизываются разные шалости и скуки, занятые чем-то вечера до самого сна. И сам сон, беспокойный, накрывающий голову паутиной, которая рвётся с первыми настойчивостями лезущего под ресницы света. Пока ещё Валя не знает, что он консервная банка, что он томатный суп Кэмпбэлл, горошек с кукурузой, красная фасоль в остром соусе, исландская селёдочка и собачий корм. Но догадывается, что он – надолго. И что он – на всякий случай. Просто ещё не тот момент.
День, как бабочка, ловится и засушивается, умирает. Валя состоит из штабелей этих мёртвых бабочек, наколотых одна на другую, он помнит каждую, не очень понимая, зачем. Даже знатоки бабочек подглядывают в какие-то книги. Валя никуда не подглядывает, и память в его маленьком теле давно переполнила голову. Он помнит пятками, локтями, пальцами ног, кончиками ушей, волос, ногтями, абстрагируясь от ненужных звуков, потому что в какой-то момент забывать становится очень трудно.
Сахарница помнит о своём сахаре, море о своей рыбе, радио – о музыках, которые в нём играли, песочница о детях, родители о старых именах, акула о звёздах в голове, потому что до неба ей так же далеко, как до потолка.
Валя входит в белый, пропахший пожухлыми цветами и дорогими лекарствами кабинет, закрывает за собой дверь, садится на краешек жёсткой скамьи. Женщина говорит ему – Валентин Егорыч, садитесь, пожалуйста, сюда, к столу, на что жалуетесь. Его передёргивает, не то от полного имени, не то от её голоса, не то от того, что он никогда не жалуется; он пересаживается на чуть более мягкий стул и видит перед собой Тату; у Таты накрашены зелёным глаза и (за)чем-то бесцветным губы, у Таты чуть более светлые волосы, чуть менее рыжие, у Таты, кажется, чуть длиннее нос, и пропали веснушки, но это она, выросла, обзавелась кабинетом, пациентами, быть может, ей тоже тесно от воспоминаний, быть может, они были заражены одним годом и одним воздухом, одной бессмысленностью песочниц и радиоточек. Валя ничего не говорит, пока думает всё это. Тата выжидающе записывает в карту какую-то правду о нём, или неправду – что там записывают доктора. Он не слышит и не видит ничего, кроме её лица и каждого дня, что они, маленькие, были знакомы – не настолько близко, чтобы прощаться.
Валя ощущает металл вокруг своей шеи и под рёбрами. Металл под коленками. Всеми этими местами он уже не может запоминать. Сначала перестали помнить кончики его пальцев, это случилось не так давно. Непонятная оболочка холодит спину и живот, Валины волосы быстро сереют, лучше всего сейчас не забывается еда, во рту всё по-прежнему, как, впрочем, и в глазах – он снимает очки, дышит на стёкла, и протирает краешком пиджака. Валя стал носить пиджаки, они защищают от лишних прикосновений.
Помнишь, как ты плакала, когда мы забрасывали землёй тот радиоприёмник, хотя это было твоей идеей, помнишь, какой я был мелкий и серьёзный, смех один, я почему-то возвращался к этому всю жизнь, я не менялся, а ты всегда росла и старилась, росла и старилась, у тебя сохранилась ещё та антенна? Мне кажется, это что-то важное, кажется, это последнее, чего мне не удастся забыть больше.
– Валентин Егорович?
Валя поднимает глаза. Сквозь заново чистые стёкла жизнь кажется ещё прекраснее и чуть грустнее.
– Вам бы съездить куда-нибудь, к родственникам, к друзьям. Что тут поделать.
Валя кивает. Она знает о нём почти всё, всё, что написано в его карте, но ничего не помнит, вот ведь в чём удивительность.
– Софья Алексеевна в отпуске, но я ей передам. Мы ничего нового сказать не можем, принимайте всё, как обычно.
Валя кивает и улыбается своим мыслям. Безделица это всё. Он берёт полагающиеся ему бумаги и прощается. Выйдя в коридор, а затем на улицу, он обращает внимание на то, что привык к запаху цветов и лекарств, и новый воздух ударяет в нос, как будто хочет разбудить. Валя знает, что его случай в высшей степени странен, и что до разгадки осталось совсем недолго.Через месяц после встречи с Татой он сосредотачивает всю свою память и полностью покрывается гибким консервным железом. В архиве отснятых плёнок он маленькая круглая баночка с этикеткой.
Когда гасят свет, видно, как на Валином боку фосфоресцируют дивные бело-зелёные звёздочки.
Письмо
Дорогая Патти,
Я полувесел и пуст, мой добрый ангел переоделся из белой футболки в чёрную, и твоя очередь говорить то, чего нам всем так не хватает.
Хожу незащищённый, даже хуже, чем голый, как будто от меня остались одни глаза, и они осязают, обжигаясь, как от холодного.
Будто тошнит своими же мирами, и душа облетает, лысеет, приближаясь к пятке.
Я могу сделать брошку, или фотографию, или разложить аккуратно маленькие предметы, а больше ни на что не способен, патти, они думают, что я могу, а я нет.
Было бы здорово, если бы никто обо мне ничего не знал, и тогда я казался бы хорошим человеком, может и сейчас кажусь, когда повсюду рассматривают, как инсталляцию, но не себе и не тебе, наверно.
О чём вся эта литература кроме как о неуверенности?
Вроде бы так спокойнее, что все врут, и хочется, чтобы врали, вот ведь в чём дело.
Я молчу, как молчит шоколадное молоко, оно просто есть, и вписывается в пакет, я вписываюсь в интерьер, в круг, витрувианским человеком ходил бы колесом, будь чуть поспортивнее
только зачем?
На голове моей поле, в нём путаются редкие маленькие цветы, жужжат пчёлы, это любопытно, они делают за щеками соты, и сто сортов мёда подслащивают пилюли.
Я думал, молчание обращается сразу ко всему, а слова кому-то конкретному, но как раз наоборот, я говорю всем, и молчу кому-то, и каждый кому-то молчит, самому важному о самом важном, как будто боясь потратить и себя, и его.
Но тратится только время, да и то – без нас, мы-то останемся там, где и были.
Во мне всё что-то звучит и уходит в смех, и в сон, как слова уходят в воду, и я ищу поддержку, как сломанная вешалка, роняющая пальто.
Я могу всё изменить и перевернуть – брошкой, фотографией, аккуратно разложенными маленькими предметами, обнять самого себя и ещё тысячу людей, в чьи лица вглядываюсь, чьих лиц избегаю.
Мир, перевёрнутый много раз, как блин, считается плоским.
И почему-то на слонах (может быть, оттого, что они себя хорошо помнят).
И почему-то на черепахе (может быть, оттого, что она уходит).
Патти, я подавлен.
Видел сегодня на мокром тротуаре катушку оранжевых ниток.
Кажется лучшее в людях – это тонкая ниточка их привязанностей.
Я разулыбался, думаю о матросах и белых платьях.Твой Роберт
Оскар
Прилив
Небо было серо-голубое, бледное, слегка не выспавшееся, как будто кто-то заштриховал карандашом и размазал пальцем; стояло раннее утро, и солнце ещё не успело нагреть асфальт, на котором мы лежали.
– Птиц не хватает.
– Или корабля.
– Будет больно?
– Немного заложит уши.
Он улыбался.
Взлётно-посадочная полоса казалось длинной, как Столетняя война, и такой ровной, что дух захватывало, кажется, это было самое ровное место на всей земле. Оставалось совсем чуть-чуть подождать.