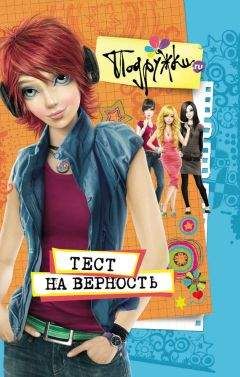Геннадий Михасенко - Кандаурские мальчишки
— Я прибежал, да поздно, — оправдывался Витька, держа в руках растерзанную модель. — А так полный порядок, только Чертилы нету…
Нас троих — меня, Витьку и Кольку — отправили в деревню за продуктами. По пути мы заглянули к деду Митрофану.
— Дедушка, здесь баран?
— А где же ему быть-то, как не тут…
— А мы овечку из трясины вынимали, — не выдержал Колька.
— Из трясины?
— Из трясины.
— Потопла!
— Одна голова торчала!
Дед дивился, охал, хлопая себя по коленям.
К скотному двору примыкал огород. Мы шмыгнули между жердей, накопали картошки, нагрузили её в подолы рубах, прихватили у деда Митрофана краюху хлеба, спички и припустили к своим — спасать от голодной смерти.
Глава пятая
Несколько дней над Кандауром тучи играли в догоняшки. Каждая гналась и догонялась. Эта бестолковая суета надоела нам, как долгий сон, а тучи не унимались.
Из-за этой мутной погоды Шурка не отпускал нас в тайгу, стращая комарами и грозой. Мы ждали прояснения.
И конец хмаре пришёл. В полдень мы вдруг уловили радостный свет в небе. Вскоре вереница туч оборвалась и поплыла за тайгу. В какие-нибудь час-два высь расчистилась. Мы приветствовали солнце пляской и криками. Колька прокатился на Чертиле, а Витька встал на руки.
Успокоившись, мы расселись вокруг Толика, как вокруг костра, и принялись дослушивать «Конька-горбунка». Стадо паслось рядом.
От книжки нас отвлёк неожиданный гром. Из-за бугра медленно и вязко выкатывалась огромная лиловая туча. Таких махин мы не видели давно. Адская сила чувствовалась в ней.
Мы собрали стадо и погнали домой. На дороге уже танцевали столбики пыли. Везде был день, но под тучей была ночь. Эта ночь постепенно растекалась по земле. Деревню, когда мы пригнали овец, уже окутал сумрак. В эти предгрозовые минуты улицы как бы сузились и наполнились необычным уютом. Воздух стал ощутимо мягким и тёплым. Деревня замерла в покорном, расслабленно-ленивом ожидании шквала.
Мама дожаривала картошку на печурке во дворе, то и дело пробуя дымящиеся пластинки и косясь на небо.
Я присел перед печкой и принялся подкидывать в неё сухие щепки.
Первые капли из громоздких туч всегда редкие и крупные. Такими они были и теперь. Сперва на раскалённую печку упали две штуки и взорвались с шипением, потом шлёпнулось ещё несколько и также фыркнули.
— Мама! — крикнул я.
Мама тряпкой подхватила сковородку и, обжигаясь, убежала в дом.
Я задержался на крыльце под крышей — посмотреть грозу.
Дождь зачастил. Двор и дорога покрылись крохотными дымками взрывов. Потом косые струи с остервенением набросились на печку. Красные яблоки на её боках начали блёкнуть, сжиматься и наконец исчезли. Белым трезубцем блеснула молния. Я испуганно отпрянул от железной скобки двери. В это время на крыльцо Кожиных чья-то проворная рука выбросила кочергу и шумовку, и тут же пальнул гром. Я не выдержал этого треска и юркнул в избу.
— Мама, слышишь?
— Слышу… Садись ешь. Картошка сыровата. Ничего, это полезнее.
— Давай, мам, кочергу выбросим, а то она молнию притянет.
— А как же быть с кроватью? Она тоже железная. А вилки? А гвозди в стенах?
Действительно, как же так? Тут что-то не то.
Я не привык ложиться рано и долго ворочался в постели, прислушиваясь к дождевому шуму. Ночью я просыпался. Капли дождя мягко ударяли в окна.
Утро пришло свежее, яркое. Тайга чётко пропечатывалась на краю неба.
Мы радовались.
— Солнце теперь и вожжами не стянешь, — сказал Петька.
— Да, — проговорил Шурка. — Вот подсохнет, и пойдём.
— А скоро подсохнет? — не терпелось мне.
— Скоро. Тут завтра же, а в тайге дня через два-три.
Мы направились к скотному двору. Я шепнул Витьке:
— Пойдём вместе в тайгу.
— Пойдём, а ты был хоть раз?
— Нет.
— А не заблудимся?
— Не заблудимся! С нами пойдёт Петька или Колька, а они тут всё исколесили… Шурк, мы с Витькой сперва пойдём, ага?
— И я, — ввернул Колька.
Петька хотел было пойти вместо Кольки, но тот распетушился, сказал, что опять его в пятки оттирают.
— Ладно, ладно. Разошёлся, аж уши покраснели, — проворчал Лейтенант.
— Не хочешь идти с ружьём — не надо, мы постреляем.
— Ага! Даст тебе Шурка пострелять!
— Ружьё-то будет с теми, кто пасёт, — заметил Шурка.
Дед Митрофан против своего обыкновения не встретил нас, не распахнул двери. Мы сами развели скрипучие створки и подоткнули их поленьями, чтобы держались.
— Дед Митрофан! — Петька кулаком постучал по сторожке. — А может, мы грабители али разбойники, а? Может, мы телятник взорвём?.. Спит, разморило дождём. Поди, мается костями, как наша бабка.
Мы вошли в конюшню.
— Стойте! — насторожился вдруг Шурка.
— Что?
— Слушайте.
Мы притихли и неожиданно уловили слабые всхлипы деда Митрофана:
— Робята… Босалыги…
— Дедушка, где ты?
— Тут я…
Мы бросались от стойла к стойлу. Сторожа нигде не было. Только лошади фыркали, укоризненно мотая головами.
— Да где же ты, дед?
— Да я снаружи… Ох, — простонал дед.
Выскочили во двор, завернули за угол и увидели старика. Он лежал под козырьком крыши, завалившись на бок, весь мокрый и посиневший.
— Слава те господи, дождалси… Думал, замру, не дождамши, — шептал он, подняв голову.
Мы, ничего не понимая, беспокойно склонились к нему.
— Что с тобой, дедушка?
— Зачем ты сюда лёг?
— Ох, только не троньте меня, не троньте… Не могу ногой ворохнуть… должно, сломал…
— Как же ты сломал?
Дед часто дышал, трясся, ойкал, клял кого-то, а когда Колька коснулся было его ноги, вскрикнул:
— Ай, не берись, чёртово племя… Сказываю — невтерпёж… Свалился я с крыши, вот что… Твердил себе: не лезь, старый хрен, не топорщься, так нет, понесла нечистая сила… Понесла да вот и принесла…
Только тут мы заметили лестницу, приставленную к крыше, да в стороне вбитую в грязь дедовскую фуражку.
Подошли пастухи коров — две тётки, растолкали нас и присели перед дедом.
— Ой, да что с тобой, молод человек?
— С крыши он брякнулся, — пояснили мы.
Митрофан уронил голову на руку и молчал. Бабы приподняли его, взяли по руке себе на плечи и повели. Старик кричал, как маленький, переступая одной ногой и волоча другую.
Когда мы выпускали овец, видели, как деда укладывали в телегу, а потом повезли.
Вечером мы узнали, что у Митрофана перелом ноги, что его положили в больницу, и надолго, потому что стариковские кости плохо срастаются: мало в них жизни.
— Это из-за тётки Дарьи, — сказал Шурка. — Не прислала плотников, вот дед сам и полез крышу латать.
— По шее бы её, мало что председательша, — потряс кулаком Петька, — а теперь вот дед Митрофан искалечился.
Всю глубину привязанности к старику мы открыли в себе, когда, загнав стадо и закрыв овчарню изнутри, проходили через конюшню и когда тётка Мария, заступившая вместо деда, крикливо сказала: «Нечего тут шляться, беспокоить лошадей. У вас есть свои двери, там и ходите!» Дед Митрофан никогда так не говорил. Да и чем мы мешаем лошадям? Чаще всего их тут нет, а когда здесь, то мы мимоходом подбираем выпавшее из яслей сено да треплем косматые гривы, выбирая из них цепкое репьё. Дед понимал нас.
Я всё рассказал маме. Она проговорила:
— Конечно.
— Что конечно?
— Что дедушка славный человек. Только на крышу ему можно было не лазить… А тётка Дарья замоталась вконец на полях. — Она помолчала и вдруг спросила: — Помнишь тыкву с глазами?
Ещё бы не помнить! Месть Граммофонихе удалась на славу. На следующий день Граммофониха шёпотом сообщила бабам об «иродовом упреждении» — быть беде. Она даже ходила бледная и понурая.
Подозрение на нас не падало. Лишь мама вот пытала меня взглядом.
— Это мы, — признался я. — Она про Петьку и Кольку враки распустила.
— Чтобы этого больше не было.
— Граммофониха сама заработала.
— Всё равно.
Я не стал огорчать маму своим упрямством, замолчал, хотя и не был с ней согласен.
Глава шестая
Вскоре, вечером, выбравшись из-за стола, я сказал:
— Мама, завтра мы идём в тайгу.
— В тайгу? Шишки-то ещё не поспели.
— Когда поспеют, мы вдобавок сходим.
Мама в прошлом году сама шишковала и однажды провалилась с кулём в «окно», ей помогли выбраться бабы. С тех пор она побаивалась зыбуна.
— Вы пойдёте сланью?
— Болотом.
— Болотом я тебя не пущу.
— Почему? — обеспокоился я. — Колька с Шуркой ходят, и я пройду. У меня такие же ноги.
— Ноги-то такие же, да чутья нету. У здешних особое чутьё на болото.