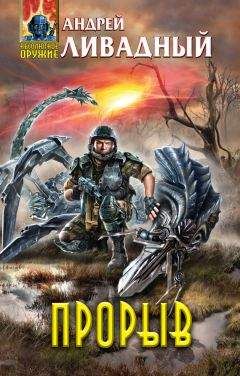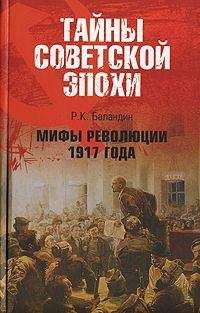Василий Радич - Казацкие были дедушки Григория Мироныча
Тщательно осмотр в все входы и выходы, ведущие в усадьбу, Палииха начала осторожно спускаться по крутой извилистой тропинке к реке. Песчаная тропа, извиваясь змейкой, врезывалась в леваду. Шорох травы, волнуемой тяжелой поступью, сливался с плеском воды, облизывающей берег.
Несмотря на кромешную тьму, пани-полковница ни разу не сбилась с дороги и подошла к косе, где качался на воде привязанный чёлн. Палииха на этом чёлноке отправилась против течения к «городку». Но не успела она проплыть и четверти версты, как её зоркие глаза различили группу всадников, медленно и осторожно приближающихся к Хвастову.
Вот они остановились, и до полковницы явственно долетел отрывок на чистейшем польском языке. Кроме того слышалось бряцание оружия и фырканье лошадей.
— Да это враги! — решила Палииха и круто повернула челнок в обратную сторону, к усадьбе.
Сомнениям не было места, так как свои не стали бы пробираться объездными путями, а ехали бы главным, «широким шляхом».
Палииха спешила домой. Не успела она захлопнуть за собой дверцу, проделанную в боковых воротах, как конский топот раздался совсем близко, в нескольких шагах.
Во дворе протрубил рожок. Оставшиеся в усадьбе люди торопливо подвязывали сабли и оправляли кремни в мушкетах и ружьях. Вот окованные железом ворота затрещали под напором нападающих. В ответ на этот натиск раздался сухой, перекатный треск выстрелов. Залпы следовали за залпами.
— Не пустим их, братцы! Бей проклятых! — гремел голос пани-полковницы.
— Стреляйте, хлопята, а то в сабли! — неистовствовал Довгонос, размахивая огромной саблей, порываясь за ворота и не замечая уже надетой на него женской плахты.
Крики, пальба, ржание коней, — все это слилось в общий гул.
Только на рассвете побоище прекратилось. Расстроенные ряды всадников поспешно удалились, сливаясь на горизонте с серым седым туманом, укутавшим долину Унавы. У ворот лежал с простреленной навылет грудью и широко раскинутыми руками запорожский казак Ярема Довгонос. Лицо его было желто, как ярый воск; черные тонкие брови сдвинуты, и только на губах попрежнему играла добродушная улыбка. Он будто подсмеивался над «бабской плахтой», прикрывавшей его ноги.
Палииха перекрестила убитого и, низко опустив голову, пошла к дому. Через несколько минут на Довгоноса надели один из самых роскошных нарядов Семена Палия.
— Эх, пора свою стару проведать! — сказал однажды Палий, обращаясь к обедавшим у него казацким старшинам.
— Давненько не заглядывал батько в свою Хвастовщину, — согласились гости.
— Нельзя было, не выберешь времени… Надо было здесь, как следует, укрепиться; а в Хвастове у меня добрый заместитель… Последние слова старик особенно подчеркнул с лукавой усмешкой.
— Моя стара никому спуску не даст, — вы ее, панове, хорошо знаете.
— Ого!..
— Еще бы!..
— Пани-полковница в кошевые годится.
— Жаль, что в Сечь баб не пускают: наша полковница была б добрым атаманом, всему кошу на славу.
Так гости характеризовали супругу радушного хозяина.
— В Хвастовщине у моей старой больше порядку, чем здесь у нас, — решил безапелляционно Палий. — Моя баба пороху довольно нанюхалась, муштру военную знает и умеет нашего брата-козарлюгу и в мирное время к рукам прибрать… Если же говорить правду, то оно нам не вредно. Без дела казаку не долго с пути сбиться…
После роскошной трапезы хозяин предложил гостям перекочевать в тень черешен. Нечего и говорить, что предложение его было принято с восторгом. Разговор зашел о последних событиях, волновавших умы того времени.
— Слышали, панове, что наши молодцы-запорожцы натворили? — обратился к компании сухопарый сотник.
— Подрались?
— Какое!..
— С москалями побились?
— Вот вы, пане-хорунжий, сразу угадали, — сказал рассказчик. — Да как еще побили!..
— Где же это случилось? — спросило несколько голосов.
— На обратном пути из Лифляндии…
— Пожалуй, нас не станут звать на подмогу…
— Что ж им теперь будет? — задал вопрос красный запорожец.
— Ничего не будет, — ответил с убеждением сотник.
— Как ничего?
— А так!
— Не может быть!
— Вот увидите… Царь московский отпустил им вину.
— Дивные дела Твои, о, Господи! — отозвался Палий и добавил сейчас же: — царь милосерд…
Солнце давно скрылось. Река и прибрежные холмы окутались фиолетовым туманом. На землю упала вечерняя прохлада. Птицы торопливо допевали свои песни, спеша на ночлег. На западе догорала заря, а над Белой Церковью стал серебряный месяц. В окнах палиивского домика заблестели веселые огни; слышался шум, смех, приветственные крики.
Тут же, во время ужина созрело решение ранним утром выехать в Хвастов, чтобы проведать пани-полковницу, славившуюся своим гостеприимством и тонким умом далеко за пределами Хвастовщины. Переезд обошелся без всяких приключений.
Слушая рассказ жены об отражении последнего наезда, старый Палий пришел в такой неописанный восторг, что полез, было, целоваться с супругой.
— Что ты, старый, белены объелся? — осадила его воинственная «половина».
В эту минуту хлопцы доложили о приезде посланца от гетмана.
Все смолкло. В комнату вошел молодой казак и с поклоном передал хозяину письмо.
Гонец вышел, а Палий вскрыл пакет и, отойдя, к окну, начал медленно разбирать написанное.
— Ну, что нового? — интересовались гости.
— Ничего особенного… Пан-гетман хочет царский день отпраздновать и зовет к себе в Бердичев на пирушку.
— Что ж это он в Бердичев забрался из своего Батурина? — спросила пани-полковница.
— А Бог его знает… Дела, видно, призвали. У него везде дела, и везде нужен свой глаз… У гетмана нет такой «правой руки», как у меня, — добавил Палий, подмигивая в сторону жены.
— Поедешь? — отрывисто спросила пани-полковница.
— Известно, поеду… Надо ехать…
— Зачем же надо.
— Царский день… Ну, и гетман собственноручно пишет… Надо ехать.
— Зачем? Вас гетман собственноручно на кол посадит, так вы и то будете рады? — ворчала пани-полковница.
— Ты уж скажешь!
— И скажу… Мало тебе кумпанства дома? Или у нас медов да наливок не хватит? Или у пана-гетмана угощения не такие?!..
— Ты, может, и правду говоришь, а все же собирай меня в путь-дороженьку.
— Поедешь?
— Поеду. Ты знаешь меня…
— Тебя-то не знать? Да твое упрямство от днепровских порогов, от Сечи, от Орды до самой Москвы, если не дальше, всякий ребенок знает. Люди говорят «упрям, как хохол», следовало бы говорить: «упрям, как старый Семен Палий»…
— Ох, и языкатая у меня жинка! — вздыхал старый запорожец. На следующей день, чуть забрезжил свет.
Палий уже был среди двора, где его обступили казаки.
— Что ж это вы, батько, нас снова покидаете? — говорили некоторые с нескрываемой горечью и грустью.
— Скоро вернусь, братики… А вам спасибо за то, что пани-матку отстояли… Жаль только Довгоноса: славный был казак, пусть ему земля пером будет.
Потолковав с казаками, Палий пришел на кухню, где еще с вечера под главенством пани-полковницы шла ожесточенная стряпня. Целые горы цыплят, уток, поросят и прочей живности занимали собою огромные дубовые столы. Все это жарилось, варилось, пеклось, запекалось, фаршировалось, готовясь услаждать казацкие желудки во время пути. Можно было подумать, что полковник едет не к известному хлебосолу — украинскому гетману, а в далекий поход, в глушь, в пустыню.
Наконец, настал момент выезжать со двора. Сначала тронулись повозки с кухней, с подарками и дорожными вещами под прикрытием небольшого конвоя.
Затем Палию подвели его любимца Гнедка. Несмотря на свои годы, старец с удивительной, легкостью очутился в седле, едва коснувшись серебряного стремени; недаром он считался одним из лучших наездников в целой Украине. Гости, пожелавшие проводить хозяина, и сопровождавшие его запорожцы последовали его примеру. Кавалькада рысцой направилась к открытым настежь воротам.
Вдруг неожиданно налетел вихрь, закружил в воздухе пыль, листья, пучки соломы и с грохотом захлопнул тяжелые ворота. Казаки снова отворили их; но всегда послушный Гнедко стал вдруг пятиться назад, и только удары нагайки заставили его выйти за околицу.
— Ох, не к добру это! — шептали суеверные спутники Палия, хотя испуг коня объяснить было нетрудно: за воротами в канаве притаился юродивый Омелько, и из густо разросшегося бурьяна выглядывала его косматая огромная голова, не знающая шапки ни летом, ни зимой.
Омелько припал к стремени Палия и жалобно стал выкрикивать на всевозможные лады:
— Семен!..Семен… Сними свой червонный жупан, — он вымок в крови… Возьми лучше мою рваную свиту… Далекая дороженька… и свита зачервонеет…