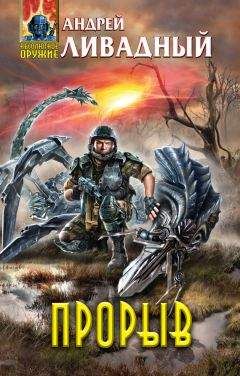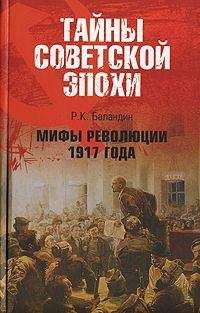Василий Радич - Казацкие были дедушки Григория Мироныча
— Нарви мне живо крапивы, а я их хорошенько умою.
Сказано — сделано.
Набрав в полу крапивы, старая полковница начала будить стражу. Энергичное прикосновение пучка жгучей, покрытой росой зелени к лицу и ушам спящего, производило магическое действие и моментально поднимало его на ноги.
— Ой, пече… ой, пече! — вскрикивали казаки и, вскочив на ноги, начинали отплевываться и отругиваться, но, заметив пани-полковницу, сейчас же умолкали и опускали свои чубатые провинившиеся головы.
— Завтра я своих баб да девчат поставлю на стражу! — выкрикивала Палииха мужественным баритоном, который как нельзя больше шел к её огромной, могущественной фигуре. — Пан-полковник со двора, так вы и губы распустили!.. Вы думали, что над вами начальства нет?.. Ну, погодите же… Я вам покажу, как надо службу нести казацкую… Вот пошлю свежей, лозы порезать да всех вас и перепотчую, так угощу своими собственными руками, что до конца дней не забудете моего угощения.
— Виноваты, пани-матка, виноваты! — отвечали в один голос казаки, почесывая затылки.
— И без вас знаю, что виноваты!.. Вам картошку подкапывать да коноплю мочить, а не стражу держать при полковницкой персоне. А еще казаками называетесь! Не казаки вы, а бабы! Хуже баб!.. Тфу! Вот что вы такое!..
Долго еще в утреннем воздухе раздавался голос пани-полковницы. В такие минуты Палииха была великолепна. Намитка её съехала на сторону, пряди черных, как смоль, волос, перевитых сединой, рассыпались по широким плечам, высокая грудь порывисто вздымалась, а резко приподнятые ноздри жадно вбирали в себя воздух. Огромные мускулистые руки при этом неистово жестикулировали, словно аккомпанируя энергичным выражениям.
Разбранив в пух и прах сонную стражу, Палииха, принимавшая во время отлучек мужа на себя бразды правления, переменила часовых и приказала трубить сбор. Не прошло и нескольких минуть, как громадный полковничий двор наполнился казаками.
— Здорово, дитки! — приветствовала полковница собравшихся воинов.
— И вы здоровеньки будьте, пани-матка! — как один человек, ответили собравшиеся казаки.
— Давно уже, братики, не было от вас разъездов, да и ляхи что-то притихли, — начала Палииха. — Я так смекаю моим бабским поганым разумом, — не к добру это… Лях не усидит долго, — где ему. Так вот, пусть сотня наша разделится на две части и посмотрит, что кругом делается на белом свете…
— Сейчас ехать, пани-матка? — почтительно осведомился старый запорожец.
— Нет, время терпит… Сначала поснедайте, коней обрядите, да и айда, с Богом.
— Слушаем… А можно шевельнуть ляхов, если случай выйдет? — интересовались некоторые.
— Задирать не стоить, а «выйдет случай», — так известно, надо пользоваться. Зевать нечего.
— Добре…
— Только вблизи Хвастовщины не жгите панских усадьб, а то они сейчас поднимут вой, что это Семен вас подослал.
Со стороны должно было бы показаться странным, что «баба» командует убеленными сединами запорожцами; но это только со стороны было странно. Для них же, кто видел и знал «пани-матку», завзятую Палииху, для тех её роль была вполне понятна. Запорожцы хорошо знали, что скорей молодой казак, только что переменившей свитку или бурсацкий халат на червонный жупан, что скорей он поклонится заслышав непривычное жужжание пули, чем полковница склонит голову под вражеским залпом.
Подкрепив силы похлебкой, казаки быстро и весело стали снаряжаться в дорогу.
— Уж лучше разъезды, чем воробьев считать на полковничьей крыше, — заметил про себя старый есаул, прикрепляя к седлу запасную пороховницу и кожаный мешок с пулями.
— А что, надоело сиднем сидеть? — отозвался бравый казак, танцевавший на одной ноге, так как другая ни за что не хотела войти в сапог.
— Известно, надоело: будто в осаде. Бабы здесь делаются запорожцами, а запорожцы — бабами.
— Это ты насчет стражи?
— Да, насчет стражи… Где же это видано, чтоб страже крапивой морды натирали?.. Без крапивы очнуться никак не могли… Тфу!.. А еще воины!., казаки!.. Если бы налетали ватаги, да выпороли их, так они спросонья, пожалуй, не приметили бы, а только на утро стали бы удивляться, отчего это сидеть больно…
— А как вы думаете, помочим мы усы в панском меду?
— Думаю, что без того не обойдется…
— Недаром, знать, у меня глотка пересохла…
На крыльце показалась статная фигура Палиихи.
Она осенила себя крестом, спросила своим зычным, густым голосом, все ли готово, и перекрестила казаков.
— Готовы, пани-матка! — загремели в ответ, чубатые «дитки».
— Тогда с Богом, гайда!..
— На коней! — раздалась команда.
— Рушай! — крикнул есаул и, отдав поводья, чертом вылетел за околицу.
Палииха стояла на крыльце, отдавая последние приказания. Вскоре смолк топот копыт, улеглась и пыль, поднятая всадниками, но с полковничьего двора долго еще доносился собачий вой и лай, заглушаемый на мгновение громовыми раскатами голоса старой Палиихи, пробиравшей неисправных домочадцев.
Продолжая обзор своих владений, Палииха нежданно-негаданно набрела на следующую группу, возмутившую ее до глубины души: в старом полутемном телятнике, в яслях, спали два казака из отряда, ушедшего на разведку. Они, очевидно, никак не могли прейти в себя и на все расспросы и угрозы отвечали только односложным мычаньем.
Негодование пани-полковницы не имело пределов. Исчерпав весь запас брани, она кончила тем, что собственноручно начала натирать крапивой уши, нос и щеки мирно отдыхающих воинов. Крапива не замедлила оказать свое магическое действие: сони вскочили на ноги.
— Ваши товарищи в поход ушли, а вы телятник стеречь вздумали! — выкрикивала полковница, сопровождая свои слова такими энергичными и выразительными жестами, что обвиняемым приходилось ежесекундно поворачивать физиономии то налево, то направо, во избежание неприятной встречи с угрожающими жестами «пани-матки».
— Вы без полковника до того по загулялись, что вам уже и на коня сесть не под силу! — не унималась хозяйка. — Ладно, пусть будет по-вашему… Хотите быть бабами — будьте бабами! Так вам, значить, на роду написано… Ступайте за мной!.. Я придумала для вас обоих дело: ты, Мироненко, будешь картошку подкапывать, а ты, Довгонос, пойдешь со старыми бабами в птичник перья драть. Пану-полковнику нужна новая перина, вот и покажи свое усердие. Гайда за мной!..
— Нет, пани, делайте со мной, что хотите, а я не пойду за вами, — ответил решительно Довгонос.
— Как не пойдешь?
— Так, не пойду!
— А кто здесь теперь после пана-полковника самый старший?
— Знаю, что ваша милость, а все ж не пойду.
— Довгонос!
— Пани-матка!
— Ой, Довгонос, не шути со мной!
— Рази я смею шутить с пани-полковницей? Я не шучу, а «не можу». Да, «не можу» я вас, пани-матка, послушать…
В хлев вошла старая сгорбленная скотница Хивря и передала казакам обновки: две заношенных плахты и башмаки.
Казаки начали, было, отшучиваться, но, заслышав зычный голос полковницы, подчинились маскараду и нехотя поплелись вслед за старухой в крайнюю хату, где помещалась своего рода богадельня. Неспособные к тяжелому труду старухи рвали здесь перья и щипали корпию.
— Вот, сестрички, я вам двух новых стариц привела, — шутила Хивря, наделяя каждого провинившегося решетом и пуком гусиных перьев.
— Дерите, дитки, на доброе здоровьечко, а пани-полковнице на перины! — добавила она, усмехаясь беззубым ртом.
— Смейся, смейся! — огрызнулся Довгонос, — уже скоро будешь сковороду лизать в пекле.
Но в глубине души нерадивые казаки были рады, что отделались таким позорным, но не тяжким наказанием. Отстать от своего отряда без весомой причины для казака было серьезным преступлением и каралось на Сечи «киями».
На пороге появилась Палииха, и все смолкло. Пани-полковница, впрочем, только взглянула в дверь: увидав казацкие головы, украшенные пышными чубами и усами, — головы, с недоумением склоненные над ворохом гусиных перьев, полковница не могла совладать с непрошеной улыбкой и поспешила уйти от соблазна, так как её смех равнялся бы прощенью. Настала ночь. Вся Хвастовщина давно была объята сном. Где-нибудь только заливались собаки, чуя приближение лесного серого недруга, пробирающегося к овечьей отаре. Пани-полковница бодрствовала. Она опоясалась кривой турецкой саблей и вышла из дому.
Воинственная, полная железной энергии, она не довольствовалась обходом усадьбы; нет, она отправлялась еще в челне к «городку»[2], устроенному на опушке густого леса, на холме, где река Унава, выходя из лесу, образует широкий залив, густо заросший тростником и платанами. Место для городка выбиралось, по возможности, неприступное, или становилось таким вследствие пополнения природной твердыни искусственными сооружениями. В «городке» у Палия всегда оставался отряд, на обязанности которого лежало зорко следить за приближением врага и не допустить его напасть неожиданно, врасплох.