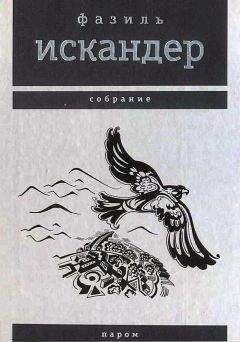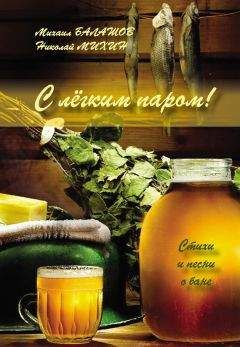Шандор Тот - Второе рождение Жолта Керекеша
Жолт вскочил и вышел в холл. Щенок лежал на отведенном ему месте и жевал рукав пуловера. Часть выдранной пряжи он проглотил, остальное расплевал по паркету.
— Обедаешь, лопоухий?! Если хочешь, пойдем погуляем.
Щенок перестал жевать, положил черную голову на передние лапы, белки его глаз встревоженно засверкали.
— Ну, иди! Иди ко мне, Зебу!
Зебулон, очевидно, истолковал его зов по-своему: он вытянул задние лапы и с неописуемо покорной мордашкой подполз на животе к Жолту.
— Пресмыкаешься, как истинный раб. Кто же так делает, Зебу! Ну ладно, глупыш! — говорил Жолт, тронутый буквально до слез.
Он сел на пол и окончательно поразился: Зебулон бросился к нему со всех ног и стал бесстрашно покусывать его руки. Он вертелся, как вьюн, а потом, совсем ошалев от радости, захлопал большими лапами по джинсам Жолта.
— Как кошка! — воскликнул Жолт.
Зебулон с неуклюжей нежностью подергал его за рубашку, и Жолт, улегшись на ковер, стал подбивать щенка на борьбу. Они резвились, барахтались, и вдруг в какой-то момент Жолт почувствовал в горле странное щекотанье. Он опустил голову, прижал кулаки к глазам и неожиданно для себя громко, с облегчением разрыдался. Щенок отскочил в сторону, озадаченный необычным звуком рыданий, потом, косолапя, обошел вокруг Жолта и влажным носом ласково ткнулся ему в лицо.
В это самое время вошла Беата и, увидев в полутемном холле брата, радостно закричала:
— Чао, Жоли, чао!
Она опустилась на колени и обняла его за шею.
— Перестань, — буркнул Жолт, заставляя себя обозлиться.
— Господи, Жоли, ты плачешь! Так тебе больно?
— Зверски больно, старушка. Но уже проходит. Теперь почти совсем прошло.
— Бедненький! — проникновенно и с жалостью сказала девочка, снова нежно обняла брата и прижалась лицом к его лицу.
— Хватит, Беата. Какого черта ты все обнимаешься?
— Но я же тебя люблю! — сказала Беата.
— Всех ты любишь и всех немедленно ставишь об этом в известность! — проворчал Жолт и захлопнул ногою дверь.
В холле стало темно.
— Да, — сказала Беата счастливым голосом.
— Ну и политика, лучше не надо, — сказал Жолт.
Он вытер глаза, и опять ему захотелось плакать, но он удержал подступавшие к горлу слезы.
— Совсем не политика, — сказала Беата, прижимаясь русой головой к лицу Жолта.
Жолт подул на ее волосы.
— Ольга меня спросила: ты и в самом деле счастливая?
— Какая Ольга?
— Ты не знаешь ее. Одна девчонка с собакой.
— С собакой?
— Ага. Послушай, Беа, я буду натаскивать Зебулона,
— Ладно, — согласилась Беата. — Но сейчас его надо вывести… Я…
— Вечно ты его тащишь! Все, наверное, покатываются со смеху.
— А вот и нет. Всем как раз очень нравится. Зебулон ведь красавчик. Можно мне его вывести?
— Веди. И будь счастлива.
— А я и счастлива, — сказала Беата.
— Тебе дали хорошее имя. А мое вот совсем ничего не означает.
— Означает.
— Что?
— Тебя. Оно означает тебя, — сияя, сказала девочка.
— Глупости, — уныло обронил Жолт, прижимая руку к задергавшемуся желудку.
— У тебя совсем белое лицо, — с тревогой сказала Беата.
— А каким оно должно быть? Черным, что ли?
Жолт скрипнул стиснутыми зубами, и сквозь них просочился странно тоненький свистящий звук. Он ненавидел, когда его страдания моментально отражались на физиономии.
— Ляг, Жоли! Магда звонила в школу и сказала, что ты болен.
— Значит, я болен официально? Любопытно! Весьма! — сказал Жолт.
— Конечно, официально.
— Слушай, Беа, сейчас я официально лягу в постель и официально засну. Все в официальном порядке. Ты согласна?
— Согласна. Все же знают, что ты заболел. Бедненький мой!
— Чаю притащишь?
Беата бросилась в кухню. А щенок стоял в двери, нюхал воздух и не осмеливался войти.
Голова кружилась, и Жолт, шатаясь, едва добрел до тахты.
Он проспал часов пять. Снились ему всякие ужасы и кошмары, но запомнился всего один сон.
— Вот и папа ошибся. На пять минут, — сказал Жолт, проснувшись и вспомнив сон, и как-то безрадостно усмехнулся.
Позднее, когда у него развилась та болезнь, он рассказал этот сон врачу.
*Доктор Керекеш прошел две остановки пешком. Воздух на улице был тускло-синий и душный, перемешанный с дымом и плотными испарениями бензина. Прогулка не освежила Керекеша. Было ощущение, что воздух давит, прижимает его к асфальту. Он шел ссутулившись, внутренне напряженный, и ему страшно хотелось, чтоб причиной его безграничной усталости был только смог5. И он поддался этой утешающей мысли. Смог! Дома горячий душ, несколько шагов по овеянному прохладой саду, и действие смога кончится.
День у Керекеша выдался небывало тяжелый. Неожиданно умер его больной, и Керекеш не мог забыть детскую улыбку под аккуратно причесанными желтовато-белыми усами покойного — он ушел из жизни, не ожидая прихода смерти. Дядя Иван был сосед Керекеша и умер, как говорится, у него на руках. Никому нет дела, что за жизнь старика врачи боролись в течение двух недель и, когда его почти выходили, вдруг отказало сердце. Переполох, волнение: в одной игле для инъекций обнаружен засохший тромб. Потом выяснилось, что в этот раз дяде Ивану инъекций не делали. Утром, после вскрытия, все станет ясно… Да, утром станет известно больше.
Керекеш с горечью усмехнулся. Ему, врачу, что-то станет известно. А старого Ивана ждет последнее пристанище — земля.
И вот в самый разгар треволнений и суматохи, часов, должно быть, в одиннадцать, раздался звонок из школы. «Хенрик Ба?ктаи для Жолта товарищ неподходящий», — сказала по телефону директор. «Разумеется», — сказал Керекеш, стараясь припомнить, кто такой Хенрик Бактаи. Тогда директор заверила, что роль Жолта в этой истории уже выяснилась, в кражах он не участвовал, однако не повредит, если отец с ним побеседует. Просто так, вообще, о его друзьях. Вот и прекрасно, что просто так, вообще. Он, Керекеш, побеседует с Жолтом о его друзьях грабителях вообще. И еще кой о чем говорила директор, в частности о торжественном вечере, когда все стояли, а Жолт…
С Керекешем поздоровался пожилой сосед, переводчик Янош Бор. Обычно они обменивались мнениями о погоде, но именно сейчас, сияя улыбкой неведения, Бор обрушил на Керекеша самый неприятный для него вопрос:
— Скажите, доктор, как чувствует себя Иван? Ему стало лучше?
— К сожалению, дядя Янош… — Керекеш не договорил.
— Неужто? — спросил старик Бор.
Он стащил с головы шляпу, но по инерции продолжал улыбаться.
— Он умер, — лаконично ответил Керекеш, вежливо поклонился и проскочил в ворота.
На садовой дорожке ему подвернулся экс-почтальон с видом знающим и удрученным. Нынче все любопытные словно бы сговорились бить Керекеша по самым больным местам.
— По дошедшим до меня слухам, господин главный врач, — сказал Липтак, — Иван, как говорится, отправился к праотцам.
— Да, — сказал Керекеш и, волей-неволей остановившись, мысленно поставил почтальону диагноз: цирроз печени.
— А вы, доктор, про это не думайте.
— Как прикажете вас понять?
— Предначертано это было, так я понимаю.
— Вот как?
— Литр чистого алкоголя, господин главный врач, никогда, можно сказать, не приносил пользы здоровью. Не укреплял, так сказать. Я тоже пью, но не…
— Господин Липтак, точно еще ничего не известно. Во всяком случае, алкоголь не явился непосредственной причиной…
— Нет?
— Нет.
— В той пузатой бутылке был метиловый спирт. Притащил он его с работы. Я что знаю, то знаю. Иван, мир праху его, был натуральный перегонный куб.
Керекеш понуро молчал.
— Все одно он сыграл бы в ящик. Раньше ли, позже, все одно бы сыграл, — рассуждал почтальон.
— Почему вы мне это говорите? — вдруг рассердился Керекеш.
— Да-да, господин главный врач, — с хитровато-покорной ухмылкой сказал Липтак. — Хорошему врачу говорить про это оплошка, потому как надежа есть завсегда. Разве не так?
Керекеш молча обошел болтливого старика и взбежал вверх по лестнице.
— Приятного аппетита вам к ужину! — крикнул вслед ему Липтак.
Магда поцеловала мужа, заметила его подернутые тенью глаза и вытянутое лицо, но сказать об этом вслух поостереглась. Ей хотелось поднять его настроение доброй вестью.
— Жолту немного лучше, — вполголоса сообщила она, так как дверь столовой была открыта.
— Ты хочешь сказать, что он протрезвился?
— Нет худа без добра, Тамаш. Ведь против алкоголя взбунтовался весь его организм, сама природа замучила мальчика. Мне кажется, он и сам уже сделал соответствующий вывод.