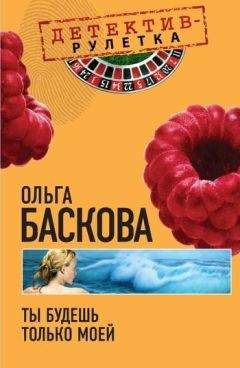Василий Лебедев - Утро Московии
– В церковь сейчас, Прокофий Федорович, или прямо к столу да трапезе?
– Я раньше всех в крестовой молился! – отрезал Соковнин.
Глава 2
Сонно ударили колокола. Звонари в такой будний день да еще с утра лишнего не перемахают, благовестного не тронут, а двинут один-два легких колокола – и с колокольни долой. И все же в эти минуты поднимались, выходили из домов даже больные и ленивые и от пяти до шести выстаивали у заутрени. Зимой, во мраке непробудившегося дня, шли в церкви с фонарями или на ощупь, с молчаливым упорством, теперь же, но румяному летнему утру, по свежести умытых росой деревянных тротуаров шли не только молодые, но и старые, и дети, если не хотели получить прута или остаться без еды.
Соковнину выезды в церковь, хоть и привычные с раннего детства, не были бы столь тягостными, не будь у него высокого сана царедворца. Таким, как он, не повелось по три раза на день мотаться к разным попам – таким надобно давно иметь свою, дворовую церковь, со священником.
Прокофий Федорович давненько, с тех пор как был пожалован Приказом Чети Устюга Великого, подумывал поставить церковь у себя на дворе, как у бояр, князей, воевод и лучших дворян повелось, да места никак не мог выбрать. Было одно подходящее, но там стояла рядом конюшня, а снести ее или скотный двор да поставить на том месте храм – царь опалу наложит: всей рухляди лишишься, а патриарх на Бело озеро сошлет или за Камень…
Однако осенью надумал было купить на домовом рынке два больших сруба, привезти плотников из Перепелихи и поставить церковь прямо среди двора, напротив хором, но осенью сначала долго провозился с укладкой солений на зиму, потом – боялся опоздать с последней ягодой – занялся своим излюбленным делом – хмельные меды затваривал да выдерживал, а на Покров царь неожиданно милость проявил: отпустил его до Рождества, дабы смог холоп его осмотреть на досуге свои поместные и вотчинные деревни. С большой пользой пожил Соковнин в своих владениях, а вернулся в Москву – тут бы и стройку можно начать до крещенских-то морозов, но великое горе отшибло руки: средний сын, Иван, провалился под лед на Москве-реке – и ни следа, ни прощального поклона…
«Нынче осенью устроюсь церковью, только бы богомазов найти поповадней», – думал Прокофий Федорович за столом, уставясь в стену воловьим взглядом, пока не заслезились глаза. От взгляда этого, устремленного мимо всех, хозяйке не раз становилось не по себе, но сегодня она не опускала лица к столу и сама смотрела на грешного мужа с высоты своей супружеской святости уничтожающе, неистово. «Смотри, смотри… Я вот те посмотрю!» – лишь про себя пригрозил он и уткнулся в глиняное блюдо. Поводил ложкой в залитом сывороткой крошеве, разглядывая огурцы, лук, яйцо, репу, белое куриное мясо, добавил соли, уксуса из кувшина, ввалил три ложки сметаны, размешал и шумно захлебал, косясь на сыновей.
Мальчишкам было не до еды. С утра на Неглинной, сразу же за стеной Белого города, у зельной мельницы, где мололи порох, хорошо берут крутобокие окуни. Там было прикормленное место: накануне было высыпано в воду четыре горшка вареного овса. Надо было бежать еще до света, не молясь и не завтракая, – мать оборонила бы от отцовского гнева, сказала бы, что занемогли и спят, – а вот теперь придется ждать, когда злой ныне отец выхлебает блюдо и направится по своей ежедневной дороге в Кремль. Федор стукнул младшего брата ногой, чтобы не медлил и был наготове, но отец заметил это и тотчас клацнул ложкой Федора по лбу. Младший фыркнул и тоже получил бы по лбу ложкой, если бы мать не заслонила рукой и не притулила голову своего любимого Алешеньки к себе.
– Обороняй мне! Неслухи! Того гляди, к отговору навадятся!
Он кинул было натуженный взгляд на жену, но тотчас опустил глаза к блюду. Не мог он сегодня смотреть на нее так, и оттого еще больше разгоралась в нем злоба. Взять бы да оттаскать ее за волосы, как водится в чинных домах, да где тут взять ее, брюхатую, – грех… Нет, не орел он был сегодня. Не орел.
Прокофий Федорович выловил гущу, откинул ложку, а жижу выпил из блюда через край. Крякнул. Грохнул днищем о расписную столешницу – жена не сморгнула.
– Пересыпь соболей травами! – резко приказал он.
В ответ лишь шевельнулись богатые серьги.
Успокоенный немного тем, что хоть не взгляд, так слово осталось за ним, Прокофий Федорович поднялся к себе в терем – любимое летнее жилище.
Никому на свете не говорил Соковнин, как он ненавидел свою покойную мать. Ненавидел за то, что она оставила ему в наследство худощавую природу тела – тонкую длинную кость, так что под шубами не скрыть торчащих локтей, плеч, таза и коленей. Ну родился бы он тяглым посадским человеком, кабальным или на худой конец худородным дворянином, когда все равно нечего ждать от жизни, а тут, как ни приедешь во дворец, только и видишь, как чертями прыгают в глазах бояр насмешки над его худобой. А породовитей да подородней – те и вовсе языки распускают, прут брюхом вперед, уставя бороду, будто перед ними не приказный дьяк, а челядин. А Романовы, Мстиславские, Татевы, Трубецкие – все, что у царева маестату толкутся, и вовсе проходу не дают. Не прислать ли, гогочут, овсеца Соковнину для откорму… Собаки! От смеха этого перед царем, как в геенне огненной[122], пропадает все его служебное исправление, да и не диво: с такой худобой, того гляди, приказ отнимут. А коли с брюхом человек, пусть он и от худородных родителей, но чином чаще верстают. Где истина? А они еще гогочут, собаки нерезаные!..
Прокофий Федорович решил пораньше отправиться в Кремль. Сегодня пятница – большое боярское сидение. Опять говорить станут на царевом выходе, как государеву казну пополнить. Спросят про Четь Устюга Великого: сколько ныне даст этот город с уездом и прочими приписными землями к концу года, а конец года – 1 сентября – не за Грузинской горой, на носу. Подьячие же, стольники, стряпчие в приказе только в носах копают да посулы от челобитчиков ждут, а в свитки пишут кое-как, считают нерадиво. Спроси их сейчас, сколько собрано с городов, с лавок, с гостиных дворов, с меры – чем в кабаках питье меряют, сколько таможенных пошлин, сколько мыта, сколько мостовщины, – ничего толком не ответят, коль не подсчитано. В приказе, как ни придешь, только ругань стоит, подьячие да стольники чинятся друг перед другом: кто кого родовитей. Вишневое костьё горстями кидают в рожи друг дружке, вместо того чтобы раскладывать то костьё да счет верный вести…
«Нет, надоти, пожалуй, заехати в приказ, попристрожити окаянных», – решил Прокофий Федорович, прикинув, что во дворец он успеет.
Он крикнул дворского и начал одеваться ко двору.
Иннокентий сразу не угодил – принес сапоги из турецкой кожи, но хозяин велел достать из сундука бархатные черные, шитые золотой канителью[123]. Штаны были выбраны шелковые синие. Поверх белой полотняной рубахи была надета красная шелковая, навыпуск, с подшитой под мышками ластовиной. На спине и груди этой рубахи были аккуратно подшиты подоплёки[124], тоже шелковые, – мастерство швеек-игольниц жениной половины. Прокофий Федорович подошел к английскому стальному зеркалу и сам приладил шитый жемчугом парчовый воротник-ожерелье. На рукава Иннокентий ловко пристегнул запястья из зеленой парчи, тоже, как и ожерелье, шитые жемчугом, и на каждом по одному крупному рубину на манер пуговиц. Однако прежде чем подпоясаться, Прокофий Федорович достал из сундука подушку с завязками, приладил ее на животе под рубахой, сам привязал на спине. Только после этого он опустил подол рубахи, осмотрел отрадно вздувшийся живот, поправил подушку раз и другой и подпоясался шелковым поясом.
– Какой кафтан – чугу или с гоголем[125], отец наш?
– Давай польский!
Недавно пришедшая мода на польские кафтаны, появившаяся в Смутное время от Лжедмитрия, приживалась боязливо, но старательнее и красивее стали шить эти кафтаны после того, как сам Морозов открыто пришел к большому царскому столу в этой одежде. Кафтан этот шился по фигуре – новое дело на Руси, – и покрой его не был страшен для Соковнина, всегда подкладывавшего на брюхо подушку, – при этом дородство проглядывало ощутимее, ладней под недобрым глазом.
– Опашень! – все более воодушевляясь, прикрикнул весело Прокофий Федорович.
Легкий плащ с длинными, до пола, рукавами, в которые никогда не продевались руки, был тотчас наброшен на плечи, а сами рукава свободно завязаны вольным узлом на спине.
– Пониже завяжи! Вот так… Во…
Поправив на гладко стриженной голове самую лучшую скуфью, богато осыпанную жемчугом и драгоценными каменьями, Прокофий Федорович еще раз взглянул на себя в зеркало, подбоченился, затем привязал к поясу кафтана нож в бархатных ножнах, золоченую ложку, калиту из красной кожи с серебряными деньгами, приодернулся.