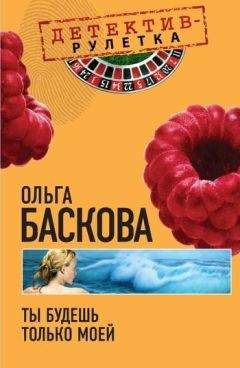Василий Лебедев - Утро Московии
– А где брал белый камень Морозов?
– В пошлом[120] вражке, у села Мягкова, там еще князь Димитрий Донской брал. Всю, отец наш, зиму, если верить старикам, тот камень при князе возили, а потом с того камня стену на Кремле поднимали.
– Сколько верст до Мягкова?
– Да верст тридцать, должно, поляжет, отец наш.
– Пошли подводы, пусть привезут того камня, и ступени эти воздыми вон, а каменны возложи! Внимаешь?
– Внимаю!
Соковнин отворил дверь и шагнул в темное прохладное помещение, продолжая расспрашивать дворского:
– В Коноплянку плотника послал?
– Намедни послано. Одиннадцать новых пчельников делати велел.
– А в Заозерье? – спрашивал Соковнин про свои вотчинные деревни.
– И там наказано полтора десятка сплотить.
– А на Перепелихе как?
– На Перепелихе своим плотникам делати нечего, а во все иные деревни послано, отец наш, послано без промешки.
– Не припоздаем? – усомнился хозяин.
– Не припоздаем: раньше десятой отройки не выметнут, не первый год отводим…
– Сколько ныне перезимовало?
Иннокентий закатил глаза к потолку погреба, блеснул неверной синевой белка, прикинул было на память выставленные на медоносы колоды, но поскольку точного их числа он никогда не знал, то намеренно медлил, шевелил в бороде губами, вызывая тем самым почтение не только среди остановившихся позади челядинов, но и у самого Соковнина.
– Двуста семей близко перезимовало, – выдохнул наконец дворский.
– А на Пестове присчитывал?
– Это окромя Пестова.
Соковнин кивнул, ухватясь обеими руками за свою сивую косматую бороду, затем, не выпуская ее из пальцев, обернулся:
– Свету!
Иннокентий нащупал над дверью, в бревенчатом вырубе, оплывшую сальную свечу. Шедший позади старший конюх тотчас чиркнул огнивом, раздул куделю, прижег от нее огарок.
Дворский стал светить.
– Надо бы и всю напогребницу каменьем выложить, – вслух подумал Соковнин, но поскольку Иннокентий на этот раз решил, видимо, промолчать, добавил, сонно поведя глазом по-заячьи, назад: – Надобно сделати, как у Морозова!
– Аже до сенокосу подводы отправлю на Мягково!
– На Заозерье нашем камень мягче, – заметил конюх, – его ломати легче станет.
– Не тебе в каменьях понимати, собака! – огрызнулся Иннокентий, двинувшись за Соковниным в глубь погреба.
Погреб был сажени четыре в длину и не меньше трех в ширину. Дверь, чуть сдвинутая вправо, освобождала на левой стороне большое пространство, от стенки до неширокого прохода огороженное сосновым подтоварником на полсажени высоты, а за этой загородкой стояли двадцати-, тридцати– и сорокаведерные бочки вина, наполовину погруженные в лед, засыпанный мелкорубленой щепой да сухой легкой поддерновой землей. Справа от прохода на низких, но широких, врытых в землю чурбанах стояли бочки поменьше. В каждой почти у самого днища торчали затычки в две пяди длиной. Над этими малыми бочками, на неширокой полице, идущей от входа до противоположной стены, стояли деревянные ведра, кружка и братина с длинной ручкой – «петушиным хвостом».
– Никак, подтекает где-то? – тревожно потянул носом Соковнин.
– Не должно… – усомнился ключник.
– Не должно, а вином пахнет! – повысил голос хозяин.
Дворский метнулся вдоль полки.
– Да это от бадейки, а не то от братины дух идет! Кто-то ввечеру прикладывался… – И стрельнул глазом на ключника.
– Не ввечеру, а старый дух…
Ключник не договорил: Соковнин молча отвесил ему пощечину, несильно, для порядка, и осмотрел все-таки затычки у бочек. Затычки не подтекали. Однако он обнюхал бочонки, огладил их ладонями – сухие. В этот момент Иннокентий услужливо подал ему братину заморского вина.
– Ренским пахнет? – спросил хозяин.
– Нет, похоже – мальвазия, а не то – бастра, – понюхал Иннокентий.
– Чем пахнет? – спросил Соковнин ключника.
– Романеею… – потупился ключник, ожидая снова оплеухи, но Соковнин смилостивился.
– Романеею! – поднял он палец вверх и, неожиданно подмигнув дворскому, сам нацедил из бочки полную братину.
Иннокентий старательно закрутил затычку, в то время как Соковнин готовил себя к причастию. Он осторожно перенял братину в левую руку, броско перекрестился, подул, по общерусскому обычаю, в блаженную хмельную желтизну и степенно вытянул одним духом. После этого он постоял немного, прикрыв глаза и прислушиваясь, как пошла романея по жилам. Очнувшись, он проверил затычку сам и шагнул к другой бочке.
– Медку изволишь, отец наш? – Черная борода Иннокентия заметно раздвинулась на щеках.
– Ни к чему свертывать два питья в одном брюхе, да еще с утра! Коли б не к цареву двору после заутрени…
Иннокентий вздохнул с сожалением. Соковнин еще потомил его немного, походил у бочек, пощупал лед, по локоть погружая руки в засыпку, потом потребовал:
– Бадейку подай, что ли!
Иннокентий – а раньше его повара, конюх и колесник – в несколько рук схватили деревянное ведерко, старательно выдули его, вышаркали ладонями, шапками, снова выдули – все это стремительно, в один прилад – и подали своему повелителю. Соковнин прошел в дальний угол погреба, к большой бочке с хмельным сычужным медом. Иннокентий на какой-то миг опередил хозяина, но тот оттеснил дворского от затычки.
– Самовольно нацежу: ты неловок!
Нацедил полведра, отпробовал десяток глотков.
Подумал – и еще десяток. Теплой волной ударило в голову хмельное янтарное питье, смешалось с фряжским вином, растопило утреннюю смурость в глазах. Оттаяв, передал ведро челяди:
– Хлебните!
Иннокентий, конюх, повара – все выпили по очереди, последним принял ключник.
– Господи благослови! Влага животворящая… – пробубнил ключник в духмяную утробу ведра и зачмокал, и затих, снова зачмокал, сопя, и опять затих, как шмель в цветовой чаше.
Ключник рад был, что не взял с собой подключника и теперь все остатки достались только ему. Он тянул дурманящую влагу, по-звериному кося глазом мимо края ведра на дверь погреба. Там выставился и затих плотный косяк остальной челяди.
– А вы чего выглазились, ротозеи? Нечего тут лед топить! А ну, вали наверх! Живо! – понемногу раскрикивался Соковнин, настраиваясь на целый горлодерный день.
В соседнем погребе он осмотрел пищевые запасы, но сам в это утро не притронулся больше ни к чему. Смотрел, приказывал, как лучше наваливать на носилки соленое мясо, свинину, квашеную капусту, огурцы… Сыр, молоко, яйца, сметану он отправил проверять и выдавать Иннокентия, а сам крикнул людей к житнице. Набежали, засуетились сначала пекаря с подручными, потом пришли с мешками за непросеянной мукой со скотного, из свинарника. Соковнин поторапливал, поучал:
– Отсыпь! Тебе говорю, рыло свиное! Отсыпь! Повелось ли в лето красное эстолько муки сыпать свиньям? Зеленя рвати надобно! Зеленя! Рост у свиней с того корму великий станет!
Только на конюшне он пробыл долго – остановился около великолепной рыжей любимой лошади, купленной два года назад на ногайских[121] торгах, впервые возобновившихся после Смутного времени. Он сам осмотрел упряжь, увидел, что один из лисьих хвостов, пришитых к узде, почти совсем оторвался. Жестом позвал старшего конюха и, ни слова не говоря, отхлестал его уздой, норовя попасть по глазам золочеными бляшками украшения, нашитого на сыромятную путаницу ремней.
– В Серой Мызе сгною! – затопал ногами Соковнин, когда конюх понял свою промашку и побежал к шорнику.
Серой Мызы, самой никудышной из всех поместных деревень, боялась вся дворня. Земля там худая, уволий для скотины мало, вода гнилая – край без сытости и цветения.
В людские избы, в летние пристройки, куда, по обыкновению, с ранней весны и до поздней осени отбывали семейные, Соковнин заглядывал редко. Сегодня он лишь приотворил дверь в пахучий полумрак, погрозил кому-то, кого и сам не рассмотрел, чтобы не разводили огня, и направился в хоромы, где под самой крышей, рядом с дверью в терем, была дверь в кладовую меховой рухляди. «Чего-то привезет Коровин из Устюга Великого, – думал Соковнин. – На сколько-то со́роков соболей раскалитится воевода Артемий? Посмотрим…»
Наверх поднялся Иннокентий.
– А где скорняк? – спросил хозяин.
– Другой день брюхом мается.
– Чеснок с водкой пить надобно!
– Пил. Не помогло, отец наш…
– Тогда вино двойное с тем же чесноком!
– И вино давали…
– Порох! Порох растереть и с вином тем принять надобно – вся хворь изойдет, а коль и это не поможет – тогда кнута ему ременного! – посоветовал Соковнин, слывший неважным лекарем, хотя и любил всех лечить сам.
Иннокентий помог хозяину перебрать связки соболей. Всё перетрясли, зорко следя, не выпорхнет ли исчадье сатаны – моль. Нет, не выпорхнула. Шевельнули куньи, лисьи, беличьи шкурки: все спокойно.
– В церковь сейчас, Прокофий Федорович, или прямо к столу да трапезе?