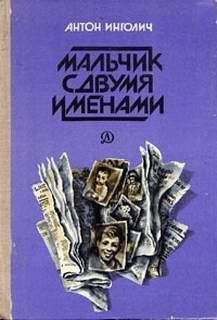Константин Махров - Сердца первое волнение
«Она ненавидит меня. Тогда я не защитил ее от Клары, то есть я не мог защитить, — думал он уныло. — Теперь — конец!»
Внешне он казался таким же, каким был и раньше, отвечал уроки, шутил с товарищами, следил за спутниками; вместе со Степаном делал модель спутника. Работал он и над своей повестью, но мало, без особого желания. Увидев, что Надя избегает его, он — из гордости — и сам старался не замечать ее, не думать о ней. И постоянно ловил себя на мысли о ней и о своей виновности перед ней, о своей бесхарактерности.
Степан Холмогоров трудился не только над моделью, его часто можно было видеть в библиотеке; он читал статьи о Чехове, делал выписки, и в начале декабря сказал Маргарите Михайловне, что доклад его готов. Маргарита Михайловна обомлела от радости! Вот уж чего не ждала, так не ждала. Она назначила занятие литературного кружка и с тревогой думала: не придут…
Пришли. Степан брал чеховскую фразу, читал ее, показывал ее своеобразие — и вдруг она оживала, трогала своей искренностью, мягким юмором, теплотой. И думалось, что теперь, когда раскрылись секреты ее построения, уже нельзя говорить не правильно. В конце доклада Степан сделал ряд критических замечаний о языке товарищей; например, привел несколько выражений из лексикона Клары Зондеевой и назвал речь ее протокольной (Клара потупилась); проехался и насчет неопределенности речений Анчера, насчет его «то есть»… Тенорок Степана звучал и требовательно, и насмешливо, но за этим тоном угадывалось горячее сердце; как-то он так говорил, что не было обидно, а было только неловко за себя и смешно над собой. «И вообще, — думал Анатолий, глядя на его небольшое, умное лицо, с редкими рябинками на щеках, на его своенравные губы, — он толковый человечище; уж если возьмется за что, так доведет до конца».
Размышления Анатолия Черемисина были прерваны вбежавшими в класс двумя приятелями — поэтом Городковым и прозаиком Земляковым, — закричавшими:
— Ребята! Спутник! Через 20 минут над нашим городом пролетит спутник! В южной части неба…
Все ринулись к двери; Маргарита Михайловна едва остановила:
— Куда вы! Двадцать минут еще. Выйдем все вместе, на террасу, оттуда будет видно хорошо… — Ребята успокоились, сели. — Знаете что? Все, сказанное Степаном, — верно, и призывы его очищать наш язык я вполне поддерживаю…
— А тут что? Литературный? — спросил высокий, вихрастый. — Вы про спутник написали? Нет? — удивился он. — Ничего не написали? Ну, брат!..
— А ты написал? — спросили его.
— Я-то написал, а вот вы напишите. И Серега написал…
— Ну так прочти свои вирши.
— Дак я… не смею, — застеснялся поэт. — Вы — старшие, мы — младшие. Как-то не того…
Его уговорили. Пантелей Городков вышел на середину и торжественно начал:
Мы много читаем,
Мы много мечтаем
О том, как слетать на Луну.
И все, что мечталось,
Нам сказкой казалось,
Зовущей в иную страну.
А нынче — звездою лучистой,
Сверкающей и серебристой,
По Космосу спутник летит
О мире и братстве,
О радости нашей и счастье
Он миру всему говорит.
Пройдет еще дней немного,
И в звездную путь-дорогу
Большие пошлем корабли.
Тут все дружно и весело захлопали:
— Вот кому первые премии! Пару белых голубей! Пару серых кроликов! Футбольный мяч!
Маргарита Михайловна крепко пожала поэту руку, а Клара Зондеева сказала, что стихи хорошие, но в них есть стилистические погрешности и ритм сбивается. Но ее никто не стал слушать — все устремились смотреть спутник…
В дверях Анатолий столкнулся с Надей. Оказывается, она была здесь, он и не видел. Она взглянула — и заспешила вперед.
Был ясный, морозный вечер. На земле, одетой в снежную шубу, уже было темно, а там, на небе…
Там загорелась яркая серебристая быстро движущаяся звездочка. И все, кто был здесь, на заснеженной террасе, захлопали в ладоши, закричали…
— Спутник! Спутник! Маленькая Луна!.. Наш землячок!
А звездочка неслась и неслась, становясь — так казалось — все ярче и ярче.
Ликование на террасе продолжалось долго и после того, как сияние «земляка» померкло. Ему кричали вдогонку:
— Еще прилетай! Всей школой встретим!
— До скорого свидания!
Расходились шумно, делясь впечатлениями.
У Маргариты Михайловны после тех «штормовых» дней на душе было хорошо и светло. А в такие минуты особенно хочется, чтобы и другим было так же хорошо. Обида на ребят уже затихла, прошла. И на Надю — тоже; не так уж велика ее вина; ну, рассказала Кларе, и теперь, наверно, знают все, ну и что ж? Пусть. Конечно, нехорошо, с этической точки зрения, разглашать доверенные тайны; да ведь Надя и сама поняла это. Вон какая печальная ходит. Нам надо поговорить, обязательно. А что могло разъединить ее и Черемисина? Какие-нибудь пустяки, а им обоим тяжело.
Анатолий стоял на террасе, глядя в сад, а Надя спускалась по ступенькам. Удобный момент! Правда, вот там замешкалась Клара, ну, ничего, они — подруги. И Маргарита Михайловна окликнула:
— Надя, задержитесь, подите сюда…
Надя подошла.
— Надя, и вы, Толя, поверьте моим добрым намерениям… Забудьте о том, что у нас… у вас произошло…
«Вон что!» — моментально подумала Надя. — Знает. Клара, значит, рассказала, что было в этом саду!»
— Забудьте про все то… Хорошо?
Она взяла Анатолия за руку и подвела его к Наде. В дверях, не замечаемый никем, появился Степан Холмогоров.
— Помиритесь! Кончите глупую ссору; вы выше ее… И ты, Клара….
Надя взглянула на Клару, спрашивая глазами: «Сказала?».
Певучий голос Маргариты Михайловны был полон покоряющей теплоты и участия. Надя опустила глаза и дышала взволнованно. «Вот хорошо! Вот хорошо!» — радовалась учительница. —
— Ну, пожалуйста… Я прошу вас… И начнем над журналом работать, дружно, как тогда.
— Я что? Я ничего, я готов, — сказал Анатолий, более всего не желавший сейчас видеть здесь Клару. — Я готов… — лепетал он. — Мне все равно…
Степан недовольно поморщился, услышав это. Надя вскинула на Анчера глаза. В синей глубине их запылала нестерпимая обида.
— А мне не все равно! — сказала она, перекинув косу с груди на спину.
— Что же нужно тебе, Надя? — спросила Маргарита Михайловна.
— Мне? Мне все нужно! Вот! А он… — Надя бросила сердитый, воинственный взгляд на Клару. — А он — боится… всех.
«Тут — Клара… — мелькнуло у Маргариты Михайловны. — Тут что-то она…»
— И зря вы пытаетесь помирить нас, — продолжала Надя. — Зачем? Чтобы ссориться? Мы — разные…
Она взглянула на Анатолия.
— Он услышит: «Надя плюс Толя» — и уже дрожит… Не хочу!
— Зачем ты оскорбляешь, то есть обижаешь? — промолвил Анатолий.
Прямые слова Нади были беспощадны. Они требовали или полного признания их справедливости или мужественного опровержения. Ни на то, ни на другое у него не было сил. Он видел: Надя уходила от него, видел, что ей это больно. Нужно сейчас же сказать, крикнуть:
— Постой! Не уходи! Мы должны быть вместе…
Но сказать это — не хватало духу. И — Клара тут… Смотрит так выжидательно и вообще… как-то непонятно. Начнет потом мораль читать…
— Да, мы — разные, — повторила Надя. — Он вроде голубя… спрячет голову под крылышко — и ему довольно.
Она запахнула пальто и пошла в школу, и в дверях столкнулась со Степаном.
Анатолий стоял как пришибленный.
— Эх, ты… бычок на веревочке! — сказал ему Степан с досадой.
— Какое хамство! — возмутилась Клара, и было непонятно, к кому относилось ее восклицание: то ли к словам Холмогорова, то ли к демонстративному уходу Нади.
— Почему — хамство? — спросила Маргарита Михайловна.
К лестнице террасы подошел Владимир Петрович.
Клара вошла в школу. Владимир Петрович сказал:
— Маргарита Михайловна, я ищу вас. Там начинается совещание. Пойдемте. Да вы, кажется, опять расстроены?
Они ушли. Тогда Степан вздохнул уныло:
— Эх, у всех, кажется, есть спутники! А вот у меня…
Смутно и тягостно было у Анатолия Черемисина на душе, когда он пришел домой.
Вот и второй раз он спасовал перед ней, — перед той, лучше и ближе которой для него нет никого. «Мне вое равно…» Как могли эти чудовищные слова слететь у него с языка? Постыдные слова, ни о чем другом не говорящие, как только о безразличном отношении к ней. Только так, — и не иначе! — она может понимать эти слова.
Отовсюду на Анатолия глядели смелые глаза Нади, — то полные укоризны, то горящие возмущением.
Как, должно быть, она презирает его! Что ж, он заслуживает этого…
Анатолий слонялся по комнатам; он то принимался помогать матери, — она размалывала кофе на старенькой мельнице — кофейнице; то открывал книгу и тут же откладывал ее, то включал приемник и слушал передачи. Думал о том, что ведь всегда выходило так: постоянно от него кто-нибудь что-то требовал, чего-то просил, в чем-то убеждал; он обещал, принимался — и не доводил до конца. Вот и Степан говорил — туманность, неясность в суждениях; разве неправда? Ничего он не может решить сразу, — всерьез и надолго, примеряется, мнется и под конец выбирает чаще всего то, что полегче, попроще. Почему так, зачем?