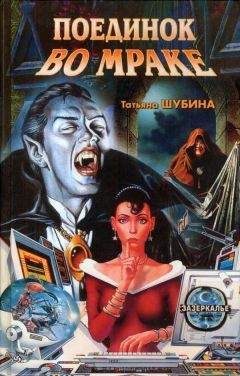Зофья Хондзыньская - Встречаются во мраке корабли
— …а не девочку, которая нуждается в помощи. Личного удовлетворения в этом не ищи, напротив, затверди себе, что ты никто, орудие помощи — не более того. Конец — и точка.
— Помощи… Разумеется, я хочу ей помочь, но ведь мы же, черт возьми, отказались от покоя, от удобств, а теперь…
— Все это было заранее известно. Мне кажется, мы достаточно об этом говорили.
Павел снова надулся: вот и Маня против него. И после минутной паузы изрек:
— А чтоб ее! Пусть себе делает что хочет. Отныне перестаю обращать на нее внимание. Буду вести себя так, словно ее вообще тут нет.
— Это самое разумное, что ты можешь сделать. Ядвига…
— Ядвига. Твой оракул. Ну и что такое гениальное сказала Ядвига?
— Ты заразился от Эрики… Этот тон… Если хочешь знать, Ядвига предлагала забрать Эрику в Константин. Я лично ничего не имею против, но последнее слово за тобой. В конце концов, ее приездом, — Маня тоже чему-то научилась от Эрики, вовсе не у него, а у нее такой тон, — если я не ошибаюсь, мы обязаны тебе.
Помолчав (она, без сомнения, твердо решила сегодня доконать его), Маня добавляет:
— Жаль, что ты не записал на магнитофон аргументы, которые сам приводил каких-нибудь пару недель тому назад. Чего там только не было! Жизнь человека, гуманные принципы, психиатрическая лечебница, право на жизнь… Не много же нужно, чтобы рефрен твой изменился: тебе неудобно, ты раздражаешься, ты не можешь учиться. В конце концов, сегодня ты только себя жалеешь, а вовсе не Эрику, а я, противившаяся ее приезду, вижу абсолютно ясно, что мы не оказали ей ни малейшей услуги, более того, ей у нас ни на волосок не лучше, чем во Вроцлаве. Если рядом двое — один здоровый, а другой больной, то здоровый должен уступить. Перестань нервничать — надо уметь себя сдерживать — и веди себя так, будто все в полном порядке. Ты должен быть с ней приветлив и добр.
— Но она не позволяет.
— Значит, надо вести себя так, чтобы позволила.
* * *— Айда со мной на площадь Спасителя, — сказал Худой Павлу. — Говорю тебе, мечта — не запеканка. На полчаса сажаешь в печь и — пальчики оближешь!
— Что ж я, один рубать буду эту запеканку? У меня, брат, солитера пока что нет. Это ты за один присест можешь пол-Варшавы слопать.
— Солитера у тебя, может, и нету, но и вкуса тоже. А воспитать его очень даже не мешало бы. Дело говорю, купи запеканку, а мать придет…
Со свертком под мышкой Павел отправился домой, и тут его осенило: почему бы не сделать сюрприз Эрике? До сих пор они состязались с ней в невежливости. А может, Маня права, может, знаки внимания с его стороны что-то изменят в ее поведении?
Вложив ключ в замок, он тут же, с порога, завопил:
— Эрика!
— Чего?
Голос, правда, не из самых приятных, но, считай, подфартило: в столовую еще не ушла.
— Здо́рово, что я поймал тебя. У меня сюрприз. Ты голодная?
— С чего это я должна быть голодная?
Ясно, раз он принес что-то поесть, она, разумеется, не голодная. Классика. Вот уж воистину талант…
— Я мировую еду купил. Накрой на стол, а я тем временем блюдо состряпаю.
— Зверюшка-стряпушка?
— И как тебе не надоест? А я-то думал, ты перестала быть зверюшкой-вреднюшкой.
— Ошибаешься.
Павел сжал зубы.
— Может, хоть накроешь, а?
— Разумеется, серебро и хрусталь к вашим услугам.
— Ну и причешись. Во Вроцлаве ты часами волосы щеткой чесала, а тут ходишь как стог сена.
— Вот именно.
— И приведи себя чуточку в порядок. Ты так выглядишь в этой пижаме, что у меня кусок в горле застрянет.
— Это тебе на пользу, ты и так слишком толстый.
— Зато тебе не на пользу, не к лицу она тебе.
— Как-нибудь перенесу и этот удар.
Эрика выходит из кухни, а Павел чувствует, как в нем закипает злость на Худого. Рыбная запеканка. Безмозглый осел, ей-богу. Он пытается зажечь духовку, она гаснет, вспыхивает, снова гаснет. Бабские фокусы! Только свяжись — обожжешься, это уж точно. Ну влазь же, чертовка! Форма никак не вставляется — ни вдоль, ни поперек. А этой — хоть бы хны, знай бродит призраком по квартире туда-сюда. Носит ее! Ну и жар из духовки! Тоже мне занятие…
— Эрика!
— Чего?
— Слушай, старуха, возьми-ка деньги, слетай вниз, вина купи. Чертовски хочется белого вина к этой рыбе.
— Держи карман шире.
— Не пойдешь, значит?
— Даже не подумаю. Ешь сам свою запеканку. За километр треской разит. Я в рот ее не беру. Убирайся-ка ты с нею подальше и не морочь мне голову.
Минута мертвой тишины, и вдруг Павел взрывается:
— Что ты хочешь этим выиграть, Эрика? Ну скажи, почему, почему, черт возьми, когда я стараюсь сделать тебе приятное, ты, как назло, такая?
— Это какая же? О чем ты? А какая я, по-твоему, должна быть?
— Не знаю. Другая, обычная. Я же, в конце концов, не сделал тебе ничего дурного. Думал, что познакомимся поближе, подружимся, все будет хорошо…
— А что, разве плохо? — Глаза ее стали огромными от удивления. — Да ты, никак, шутишь. Я уж тогда и не знаю, чего тебе надо. В самом деле, тебе плохо? А вот мне с тобой — чудесно! Морские сирены, световые сигналы, родство душ, обеды с вином… Может, скажешь, чего тебе от меня еще нужно?
Павел даже не повернул головы. Ненависть — вот единственное, что он чувствовал к ней в эту минуту.
— Ничего я тебе не скажу! — прошипел он. — И вообще ничего уже тебе не скажу. Все имеет свои границы. И не обращайся больше ко мне… ты… змея. Пустая затея.
— Какая жалость, — тихо и очень внятно говорит Эрика. — Боже мой, какая жалость, столько самопожертвования, такое самоотверженное стремление окружить бедную, несчастную Эрику сердечной теплотой, создать ей идеальный дом — и все понапрасну. Бедная, несчастная Эрика хотела бы только одного: выйти отсюда раз и навсегда, убраться восвояси, хлопнуть дверью и чтоб ноги ее больше здесь не было! Слышишь?
Воцаряется тишина.
Павел молча подходит к плите, гасит ее, тряпкой вынимает запеканку и вместе с формочкой вываливает в мусорное ведро. Потом идет в комнату и, не затворяя двери, набирает номер.
— Алька, ты?
(«Алька», — думает Эрика, и сердце ее начинает колотиться. Он как-то говорил о ней. Прежняя его девушка.)
— Слушай, извини за вчерашнее. Я зря погорячился.
(«За вчерашнее. Значит, было какое-то вчера. Ко всему прочему, было еще какое-то вчера…»)
— Ну не сердись, старуха, приходи в «Иву». Нет. Нет. Переменилось, я свободен.
— …
— Когда? Сейчас. Я буду там минут через пятнадцать, не позже.
Эрика словно вросла в землю. Она слышит, как Павел, насвистывая, идет в ванную, потом в переднюю. Окликнуть бы его, сказать бы: «Не надо, не ходи, я знаю, из-за меня все, я изменюсь, погоди, потерпи еще чуточку» — но она молчит.
Секунду она стоит в нерешительности. Потом хватает телефонную книжку. Нужно, нужно найти эту проклятую «Иву». На «И» «Ивы» нет. На «кафе»… Да это же, наверное, в другой книге. Справочное бюро. Одной рукой натягивая брюки, Эрика другой набирает номер. Занято, как обычно. К чему ей эта «Ива», она сама толком не знает. Нужна, и все тут. Эрика до крови закусывает губу. Все было бы иначе, если бы она не кидалась как идиотка, что ей стоило надеть брюки, пройтись гребенкой по волосам, не хамить так…
— Справочное.
Далеко уйдя мыслями от нужной ей информации, Эрика запинается:
— Будьте любезны, я хотела спросить… кафе… кафе…
— Какое кафе? Я же не дух святой, — выпускает в нее заряд «вежливости» девица из справочного.
— А я вовсе не подозреваю вас в этом, — срывает Эрика злость на телефонистке. — Мне нужно кафе «Ива».
— На какой улице?
— Не знаю.
— Я, что ли, должна знать?
— Прошу вас, мне очень нужно, поищите, пожалуйста!..
— Минуточку. Маршалковская, тридцать шесть. Подходит?
— Да, наверное, раз недалеко отсюда.
— Номер телефона…
Но Эрика кладет трубку, а спустя пять минут уже сбегает вниз по лестнице. Счастье, что в последний момент захватила ключи. Зачем она идет в «Иву» — одному богу известно, но одно ей ясно: не пойти она не может. Внезапно Эрика резко сворачивает. В подворотню. Впереди, всего в нескольких шагах от нее, медленно идет Павел. Видно, заглянул куда-то по пути. Эрика наблюдает за ним. Вид у него отнюдь не воинственный. Сгорбился, грустный какой-то… Бедный Павел, добрый, милый Павел. Почему она невыносимо вредная с ним? Была, есть и будет. Все, что встретилось ей в жизни, все, что встретилось… «Павел!» — зовет она его так громко, что люди на улице должны были бы обернуться, но нет, никто не оборачивается, ведь Эрике лишь мнится, что она зовет его, на самом деле она молча следует за ним, к тому же на порядочном расстоянии. «Павел, дорогой, милый, прости меня…» Но никто ничего не слышит, люди не слышат, не могут услышать даже отчаяннейший крик души. Дождь припустил сильнее, Эрика поднимает лицо, дождевые капли смешиваются на ее лице со слезами раскаяния, стыда, отчаяния.