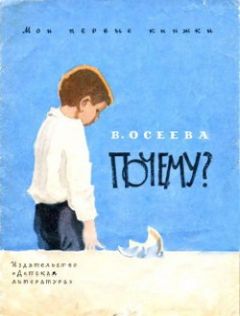Владислав Крпивин - Дагги-Тиц
Репетиции «полного состава» ожидались позднее, на школьной сцене. А пока, в комнате, начали «пробовать» финал — с мухой, пауком и комаром.
Конечно, сперва Инки окостенел — ни рукой махнуть, ни ногой дрыгнуть. А простенькие слова — «Я злодея победил?.. Я тебя освободил?..» — застряли в горле, как пластмассовые ежики. И какой уж там бой с пауком! Не брякнуться бы в обморок…
— Инки, проснись… — жалобным полушепотом сказала Полянка.
— Ты же вон как здорово воевал на болоте! — шумно напомнила Зоя (лучше бы не напоминала!). А близнец Славик посоветовал близнецу Ромке:
— Пни ему по копчику, он сразу станет расковаанный…
Тогда Инки разозлился. На Славика и на себя. Но досталось пауку — то есть запрятанному в картонный, оклеенный клочкастой шерстью и увенчанный многоглазой башкой ящик Юрасику. Тот еле успевал отмахиваться конечностями (четырьмя своими и четырьмя протезными). Инки, сцепив зубы, несколько раз крутанулся перед чудовищем, упал на колено, уходя от встречного замаха паучьей лапы, потом вытянулся в струнку и снес широкой линейкой голову злодея — она была склеена из толстой бумаги и держалась на такой же бумажной шейке.
Юрась заверещал «спасите!», выпрыгнул из туловища-скафандра и удрал на кухню. Там он был пойман за тем, что поспешно глотал похищенный из холодильника яблочный сок.
— Балда! Ангину захотел? — Зоя шлепнула его Инкиной линейкой. А Инки показала большой палец. Молодец, мол…
Инки опять начал увязать в густой стыдливости, но тут Зоя велела снова идти в комнату. Расселись, и она уже вслух сказала:
— Инки молодец. — (А Полянка тепло дышала рядом).
— Ага, он молодец, — облизываясь, подтвердил Юрась. — Освободил меня от комариной роли. Мне Паучище в сто раз больше нравится.
Глазастый Никитка поерзал на ковре и тоном заговорщика попросил:
— Зой, споем «Пароходика»…
Зоя быстро потянулась назад, сняла висевшую над диваном гитару. Взяла аккорд. И все (кроме Инки, конечно) разом запели:
Наш веселый пароходик
Называется «Дыра!
Если щель мы в нем находим,
То всегда кричим: «Ура!»
Лопастями бьют колеса
В гребешки морской волны.
Удивленные вопросы
Нам по радио слышны.
«Люди, кто вы и откуда? —
Нам сигналят корабли. —
Что за ржавую посуду
Вы для плаванья нашли?»
Белым пароходам этим
Улыбается судьба.
Есть там бублики в буфете,
А у нас — одна труба.
Над трубою дым колечком
Или в виде колбасы.
У трубы мы, как у печки,
Греем мокрые носы.
Путь наш толком неизвестен —
То туда, а то сюда.
Но зато всегда мы вместе,
Остальное — ерунда…
Вроде бы забавная была песенка, дурашливые слова. Но Инки показалось, что поют ее чересчур серьезно. Если и было на лицах веселье, то… и оно какое-то серьезное. Старательное. А может быть, это лишь чудилось. Он, Инки, был новичок в компании и, конечно, многого не знал, не понимал… Полянка пела потише остальных и поглядывал на Инки. Словно хотела спросить: «Ну, как тебе здесь?» А было неплохо. Не так уж часто он видел, чтобы столько людей вместе и все друг к дружке — по-доброму, хотя и разные. А главное, что рядом была Полянка…
Трудно поверить, что за неделю можно подготовить спектакль. Пусть маленький, ребячий, для школьной сцены, однако все же целое представление.
Впрочем, это лишь Инки казалось, что — за неделю. На самом деле возились немало, с лета: костюмы готовили, с малышами репетировали. Но Инки-то пришлось осваивать роль всего за семь дней! И ему чудилось, что все произошло стремительно. Он не успел еще оглядеться в новой школе, а тут — будьте добры, премьера!
За два дня до нее Инки совсем перестал бояться. Не стеснялся уже ни взглядов со стороны, ни своего комарино-гусарского костюма с прозрачными крылышками и жестяными шпорами на кроссовках. Даже когда репетировали в школьном зале и набивалось туда немало постороннего народа, Инки не ощущал прежней скованности. Он обязан был спасти муху (Цокотуху? Дагги-Тиц?). Избавить от беды Полянку. И он знал, что избавит. Когда колченогий нескладный Паучище зловещими движениями накидывал на Полянку волейбольную сетку, тянул к жертве черные суставчатые лапы, разгневанного Инки будто пружина выбрасывала из-за кулис. Он вскидывал деревянный, покрытый серебрянкой клинок. И начинал боевой танец, который придумывал на ходу. С разворотами, взмахами и выпадами он приближался к оторопевшему пауку (тот вразнобой махал растопыренными конечностями и ресницами из черных спичек). «Нуё держись!»
Р-раз!..
И на премьере все шло, как задумано. Детсадовские «букашки» спели свои песенки, сплясали танцы, помогли Полянке водрузить посреди сцены большущий самовар (настоящий, начищенный). Под такую вот песенку:
Аты-баты, шли солдаты!
Аты-баты, на базар!
Аты-баты, что купили?
Аты-баты, самовар!
Только это — просто слухи!
Самовар достался мухе!
И она сейчас зовет
К чаепитию народ…
И Полянка чистым голоском пела:
Приходите все букашки,
Я вас чаем напою…
Ту-то и появился злодей!
…Инки отвоевался как надо! И бумажная голова, дергая ресницами-гребешками, под шумные хлопки зрителей полетела на доски сцены. Щуплый Юрасик — в соломенном парике, в куцых портках из мешковины, в маленьких лаптях и залатанной рубашке — выскочил из картонного короба и завопил:
— Ай! Не надо, я это понарошке! Я больше не буду!
Инки для порядка хлопнул его шпагой по мешковине, и бывший паук вприпрыжку удрал за декорацию с намалеванными подсолнухами. Инки ловко перебросил оружие в левую руку. Развернулся к мухе. Сдернул с Полянки сеть. Полянка… она смотрела, будто он и правда спас ее от гибели.
— Я злодея победил? — сказал Инки и почуял, что на него вдруг валятся ватными мешками прежние стыд и робость. И голос, кажется, стал сиплым. Он кашлянул и с перепугу спросил тонко-звонко:
— Я тебя освободил?
— Победил… Освободил… — Полянка старательно кивала. Видимо, поняла, что с Инки творится неладное, и показывала изо всех сил: говори дальше, не бойся!
А он боялся! Обмяк. Сказать Полянке: «А теперь, душа-девица, на тебе хочу жениться!» было немыслимо. На репетициях говорил тыщу раз и хоть бы хны, а тут, при полном зале… Будто он по правде должен признаться Полянке в любви…
Инки зажмурился. Согнул одеревенелую руку (в которой шпага), рукавом футболки вытер под носом. Выговорил с ощущением, что сейчас провалится под сцену:
— Я… это… теперь… давай поженимся, ладно?
…И были шум, смех, шквал хлопков, заключительная пляска обрадованных «букашек», и Полянка держала его за руку и шепотом говорила «кланяйся», и он кланялся, будто ему перебили поясницу. И вертелось в голове: «Второй раз выступаю с ней и второй раз скандал…Она теперь наплюет на меня…»
Потом Инки утащили за кулисы. Зоя сбросила с него гусарский кивер и встрепала мокрые волосы.
— Ну, ты герой! Талант… Импровизатор! Тебя надо в театр Мейерхольда!
Инки понятия не имел, кто такой Мейерхольд, но медленно осознавал, что скандала и позора, кажется, нет. Почему-то им все довольны. Он не стал разбираться — почему? Полянкины глаза светились, и этого хватало для робко вернувшейся радости…
Когда зрители разошлись, все участники спектакля устроили за кулисами настоящее чаепитие. Из того самого самовара. С твердым рафинадом и сухими бубликами. А после чая «штурманята» встали кружком и, обнявшись за плечи, спели «Пароходик». Инки уже знал, что в этой компании такая традиция. Сам он почти не пел, стеснялся, только шевелил губами, но чувствовал под ладонью Полянкино плечико, и было ему хорошо.
Когда шли от школы к Полянкиному дому, стыдливость опять облепила Инки, будто клейстер.
— Ты чего? — сказала Полянка.
Он ответил честно:
— Да ну… тошно вспомнить. Встал там, как чурбан придурошный, слова застряли… Ты хотя бы треснула меня по шее!
— Что ты! Зрители бы не поняли…
— Да не тогда, а сейчас!
Полянки на ходу потрогала его жилку у глаза.
— Не выдумывай…
— Больше ни разу не сунусь на сцену:
— Не выдумывай, — сказала она опять, и почему-то Инки не решился спорить.
Чтобы сменить разговор, он спросил насуплено:
— А эта песня… про пароход… она откуда? Я ее до этих дней нигде не слыхал.
Полянка шла рядом, смотрела перед собой и молчала. Слишком долго молчала. Инки тревожно глянул на нее сбоку. Полянка опустила лицо.
— Ее сочинил Мелькер. Это наш бывший руководитель. Мы его так звали… Есть такая книжка, назваается «Мы на острове Сальткрока», и в ней очень добрый дядька, он дружил с детьми. Ну вот и нашего Бориса мы так прозвали…