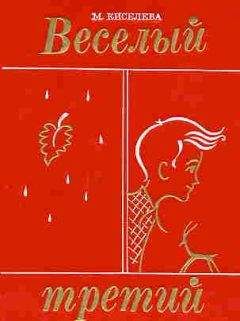Михаил Коршунов - Бульвар под ливнем (Музыканты)
— Я полагаю, — сказал Всеволод Николаевич, — что в общем и целом мы справились с поставленной задачей. Школа продемонстрировала определенный уровень исполнительской культуры, возможности учеников, их техническую оснащенность, зрелость.
Сидела Верочка и писала протокол.
— Мы можем отобрать ребят для нового выступления. Мы располагаем такими учениками. Нам есть, что показать.
Преподаватели взглянули на стену, на то место, где недавно висела афиша и где в скором времени должна была появиться новая, но на ней будет уже написано не «Малый зал», а «Большой зал Консерватории». Поэтому сегодня разговор не только о прошедшем концерте, но и о предстоящем, более ответственном.
— Мы проделали серьезную работу, — продолжал говорить директор, — но предстоит еще более серьезная и ответственная.
Евгения Борисовна листала свои записи, готовилась к выступлению. Она из всего любила делать обширные выводы. Ипполит Васильевич сидел в кресле и дремал или делал вид, что дремлет. Преподаватель в военной форме без погон ждал случая, чтобы самому отметить выступление своего ученика, что было справедливым. Поэтому, когда он уловил паузу в словах директора и спросил: «Что вы скажете о моем воспитаннике, Всеволод Николаевич?», все восприняли его вопрос как вполне закономерный.
— Очень способный, и вы с ним на верном пути.
Тут директор как-то смущенно замолк. Очевидно, потому, что произнес слова в отношении верного пути. Он будто почувствовал, как вздрогнула Кира Викторовна. Она сидела на педсовете очень настороженная.
— Я думаю, что могу усложнить программу и подготовить с моим воспитанником что-нибудь более серьезное для Большого зала.
— Но он же совсем ребенок! — не выдержала Евгения Борисовна.
— Я вас не понимаю, — сказал преподаватель.
— Это я вас не понимаю! — не успокаивалась Евгения Борисовна.
Кто-то из молодых преподавателей сказал:
— Напрасно мы боимся усложнений концертной программы.
— Конечно.
— Ребята уходят далеко вперед, выступая в классах. Федченко, например, каждую неделю приносит мне по одному этюду Шопена.
— А Юра Ветлугин…
— Оля Гончарова!..
— Они смелее нас.
— В музыке недостаточно одной смелости, — опять вступила в разговор Евгения Борисовна. — Я бы сказала молодым преподавателям, что их ученики часто прячутся за обилием нот и сложных конструкций. Забывают об осторожности. А вещи…
Ипполит Васильевич поднял голову и сказал:
— Один грузчик мебельного магазина заявил, что когда в узкую дверь квартиры протаскивают шкаф, то люди делятся на две категории: первые кричат «Осторожно, полировка!», вторые — «Осторожно, руки!» Это я так, к слову о вещах.
Евгения Борисовна никогда не знала, как надо спорить с Ипполитом Васильевичем. Впрочем, это происходило не только с ней.
Всеволод Николаевич начал опрашивать преподавателей, кто с каким учеником выступит и с какой программой.
— Хор в том же составе, — сказал руководитель хора.
— С какой программой?
— Включим две новые русские народные песни.
— Виолончелисты?
— Петя Шимко, конечно. Я подготовлю с ним сонату Бетховена, — сказал преподаватель класса виолончели. — У него есть все для Бетховена — интонации, горделивая энергия.
— Очень продвинутый ученик, — сказал директор. — Мне кажется, мы должны максимально усложнить программу. Я думаю, что все-таки правы наши молодые преподаватели, которые говорят, что ребята уходят далеко вперед в своих работах в классах. Будем смелее! — И при этом Всеволод Николаевич взглянул на Ипполита Васильевича. Может быть, ему хотелось, чтобы старик поставил ему сегодня шесть.
Но старик промолчал, или он все-таки уснул в своей карете. Из принципа.
— Кто еще? — спросил директор. — Какие у кого есть еще предложения?
Кира Викторовна поднялась с места. К ней повернулись все. Как будто с самого начала ждали от нее каких-то слов.
— Выступлю с ансамблем скрипачей в том же составе! — сказала она.
Всеволод Николаевич обмер, потом громко закашлялся, как будто бы подавился костью. Евгения Борисовна вытянулась вся и окаменела. Даже Ипполит Васильевич проснулся. Казалось, он сейчас выставит ей одну из своих оценок. Только какую?
Верочка улыбнулась Кире Викторовне и записала ее слова в протокол.
Оля — о себе и об Андрее
Утро у меня начинается как всегда: звонит будильник, и я сразу встаю, хотя никому сразу вставать не хочется — так рано, и еще зимой. Бабушку я не беспокою и все на кухне делаю сама.
Кухня у нас маленькая, поэтому можно доставать одной рукой до плиты, другой — до шкафа с чашками и тарелками. Я сижу на круглом вертящемся стуле. Это стул для фортепьяно. Теперь такими стульями пианисты не пользуются. Стулья эти неустойчивые. Дедушка приспособил стул на кухне: покрасил белой краской и он сделался кухонным. Сидишь и поворачиваешься на нем, то к плите — здравствуйте, чайник, то к буфету — здравствуйте, чашка, здравствуйте, тарелка.
Так я сижу, поворачиваюсь, накрываю себе на стол. Потом мне надо сбегать вниз, в подъезд, принести дедушке свежие газеты. Газеты «Вечерняя Москва» и «Известия» лежат внизу в подъезде с вечера. Я их приношу, чтобы, когда дедушка встанет, газеты были уже дома. Он их прочитывает, как только открывает глаза. Если рядом со мной будильник, рядом с ним всегда газеты. Я осторожно кладу их на столик, потому что газеты всегда громко шелестят.
Дедушка у меня всю жизнь работал на заводе «Мосмузрадио» настройщиком-интонировщиком. Давал голоса новым пианино и роялям. У него точный слух, профессиональный. Дедушка способен уловить разницу звучания до нескольких колебаний в секунду.
Недавно я, как всегда, осторожно вошла в комнату, чтобы положить газеты. Вдруг дедушка поднял голову. «Что с тобой?» — спросил он. Я сделала вид, что не понимаю. Он повторил вопрос и поглядел пристально на меня. Как я могла объяснить об Андрее… о себе… Теперь вот Андрея нет в школе, а я не знаю, что мне делать, как ему помочь. А ему надо помочь. Его мать тогда кричала, что я виновата, что он тогда на сцене повернулся и ушел. Что все так получилось. А сам Андрей? Он меня не замечает, а если замечает — старается обидеть. Но я ведь никогда не мешаю ему, даже лишний раз не обращаюсь.
Сейчас Андрея нет в нашей школе. Где он? И надо было бы пойти к нему домой или хотя бы поговорить с Кирой Викторовной или еще с кем-нибудь. Но с кем? Ладя вот приходил. Я думала, он заговорит об Андрее и обо всем, что случилось, а он ничего не сказал, и я ничего не сказала, промолчала. Легче всего промолчать. Я понимаю, это многим людям легче всего. И надо было с Ладей поговорить. Но не поговорила.
В день концерта в артистическую — перед тем как нам выходить на сцену — примчался Ладя, красный, запыхавшийся, вытащил из футляра скрипку, сказал: «Дайте „ля“». Ему дали. Он подстроился, и тут вдруг Андрей подскочил к нему. Если бы не Алла Романовна, то и не известно — вышли бы мы все на сцену.
Я еще не видела Андрея таким. Даже тогда в раздевалке, когда я случайно толкнула вешалку и вешалка упала на меня и на Андрея, завалила нас пальто. Он был в ярости. Но что это по сравнению с тем, каким он был в артистической. Должна была начаться драка, и такая, от которой страшно становится. Бывают такие драки. Ну, и потом все остальное на сцене, в школе. Преподаватели делали вид, что ничего не произошло, но мы все знали — Андрея нет. Исчез.
Вот почему я не знала, что сказать дедушке. Дедушка понял и не стал больше ничего спрашивать. Я была благодарна ему. Он у меня с сильным характером. Он даже бывает суровым стариком. Непреклонным. Вот бы мне его суровости. Вообще, нехорошо мне. И раньше было нехорошо, когда видела Андрея почти ежедневно, и теперь, когда не вижу его, когда он пропал. Даже теперь хуже.
Дома я меньше занимаюсь, не идет у меня сейчас музыка. Не идут руки, когда сажусь за фортепьяно, потому что думаю о другом. Не хочу, а думаю.
Если я отправляюсь рано утром в школу, то потому, что привыкла, и еще потому, что лучше мне уходить из дому рано. Чтобы все было как было. Хотя бы внешне. Скорее бы только весна, настоящая и уже без снега. Зимой мне всегда грустно.
После уроков я пошла в библиотеку, чтобы переписать ноты для занятий, и тут вспомнила, что в папке у меня лежит книжка. Я раскрыла ее и начала читать. Это была книга о любви, как любовь понимали поэты Рима, Индии, Аравии, как ее понимал Гейне, Шекспир, Маяковский, Бунин. Как понимают любовь теперь.
«…Почему именно этого человека ты хочешь видеть, должен видеть, не можешь не видеть?»
«Любовь — это не только любовь, а еще и свобода, и истина, и красота, и справедливость… И когда человек любит, он не только любит — он обретает какую-то свободу, добывает какую-то красоту, творит какое-то добро, постигает какую-то истину».