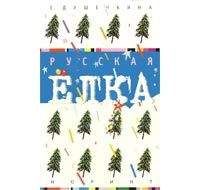Нина Емельянова - Родники
— А так, — ответила она смущённо, — я на подённую вместо мамки ходила, полы в трактире мыть…
— Как же тебя Ксения пустила? — спросила мама.
— Мамка сильно хворала, — ответила Дуняша, — а папаня уезжал, денег не стало, я и побежала вместо мамки.
Дуня была закутана в тёплый ксенин платок, её беленькое личико раскраснелось на морозе, и, когда она разделась, я увидела, что на ней надето славненькое клетчатое платьице.
— Это мне тетя Малаша сшила, — сказала она. — Она хорошая, Катюшку по всякий день к себе зовёт. И дедушка Никита Васильевич её очень любит.
В это время дядя Пётр рассказывал мне, что сегодня в Москве было несколько рабочих демонстраций.
— С Кондратьевым вчера встретились в одном месте, — сказал он. — Необыкновенный человек! Вожак!
— Я раньше не понимала, как он не боится оставить семью «на произвол судьбы», — задумчиво сказала мама. Эти слова она часто говорила, обозначая ими, что кто-то остался один, беспомощный; с таким человеком случается всё, и он уже не может ждать ничего хорошего.
— А теперь? — обёртываясь и пронзительно глядя на неё, спросил Пётр.
— Теперь понимаю, но сама бы не могла, — горячо ответила мама. — Для матерей этот путь неимоверно труден.
— Однако этим трудным путём идут многие женщины.
— Девушки, которые не знают, что оставляют…
— Идут и матери. Да ты знаешь ли, как та же Ксения помогала Кондратьеву тем, что в его отсутствие не падала духом? Она всегда прокормит детей своим трудом.
— Ну, а куда бы я пошла работать?
— Значит, Ксения с двумя детьми может пробиться, а ты, грамотная женщина, не можешь? А почему? Какая разница? Ты боишься подумать о том, что видишь. Жизни не бойся, Груня, а то она тебя бояться будет.
Из этого разговора я поняла, что есть люди, которые борются за то, чтобы рабочим жилось лучше! Мама тоже хочет, чтобы рабочим жилось лучше, но что это за трудный путь, которым ей надо пойти, я не знала.
Вечером дядя Пётр сказал, что теперь он доведёт Дуняшу до дома: он идёт в ту сторону.
— Оставь её ночевать у нас, Петя, — сказал отец. — Да и тебе не остаться ли? Нынче около нас что-то уж больно много полиции.
— Мы выйдем за ворота и поглядим, — ответил дядя Пётр. — С Дуняшей нам веселей будет идти. Одевайся, Дуняша.
Дуняша быстро надела свой полушубочек, обвязалась платком. Я тоже накинула шубейку.
— Куда ты? — спросила мама.
— Я только за ворога, поглядеть! — крикнула я, выбегая во двор.
Так хорошо было во дворе! Всё затихло, ушли и полицейские, только в будке у ворот сидел Данила в тулупе. Маленький фонарик, висящий на стене, освещал горевшей в нём свечой запавшие под тёмными бровями глаза Данилы и широкую бороду.
— Куда это ты побегла? — спросил он меня.
— Я только за ворота, Дуняшу проводить.
— Дальние проводы — лишние слёзы! — сказал Данила. — Вот, Пётр Иваныч, там, на углу, ходят, интересуются документами…
— Кто ходит? — спросил дядя Пётр.
— Пехотный патруль, — лениво протянул Данила, вглядываясь в лицо дяди Петра умными, пристальными глазами. — Похоже, выстрел был. Не слыхали?
Мы с Дуняшей первые выскочили на улицу; около фабричных ворот горел фонарь, освещая тёмные доски забора, бросая светлый круг на серый, выбитый снег. Дальше один фонарь был разбит, а за ним через большой промежуток фонари, казалось, горели тусклее… Оба сторожа, тоже в тулупах, как и Данила, ходили взад и вперёд вдоль забора. Мимо ворот ехал извозчик; санки, прикрытые полостью, раскатывались в неровных колеях.
— Не слыхал. Спасибо.
Дядя говорил отрывисто, оглядывая улицу. Она была такая, как всегда, и чем-то другая.
— А «те» ушли? — спросил дядя Пётр.
— В дворницкой сидят… — тихо ответил Данила. — Чего-то ожидают.
Издали на улице послышались какой-то сыпучий звук многих шагов и железное звякание или постукивание по мостовой. Звук мерно нарастал и приближался.
— Д-да, — сказал дядя Пётр. — Нарываться не стоит. Ну, вот что, девочки, идите-ка домой. Ты, Дуняша, заночуешь. А я зайду, мамке твоей скажу.
Он надвинул шапку и пошёл в узкий переулок напротив фабрики. Взявшись за руки, мы с Дуняшей перебежали через двор и, румяные, оживлённые, вбежали в комнату.
На другой день утром Дуняша убежала домой. Мама сказала ей:
— Ты иди, Дуняша. Может быть, Пётр Иваныч не зашёл вчера к вам и мама твоя беспокоится.
Когда через день или два снова появился у нас дядя Пётр, мама и ему повторила: может быть, он не заходил к Кондратьевым?..
— Не могло этого быть, — сердито отрезал дядя, — я ведь живой, как же я не исполню обещанного?
В гостях
Наконец-то мама позволила, чтобы Клавдичка взяла меня с собой в гости к Лёле. Ох, как мы собирались!
Мама достала из шкафа новое синее платьице, одела меня и, когда причёсывала, пожалела, что мои волосы ещё нельзя заплетать в косу.
— А так ты растреплешься, и будет нехорошо! — Она посмотрела на меня сбоку, и я по её взгляду поняла, что там, в гостях, на меня будут смотреть со стороны и маме хочется, чтобы у меня был хороший вид.
— Следи за собой всё время, — сказала мама, — помни, что ты в гостях.
Никогда мама так не говорила мне, хотя мы с ней ездили и к дяде Петру, и к дедушке Никите Васильевичу, и в концерт, где я слушала «Снегурочку». Когда мы шли с Клавдичкой по улице, я спросила:
— Клавдичка, а почему у Лёли мне надо всё время следить за собой?
— Потому, — ответила Клавдичка, — что там ты увидишь совсем другие порядки, чем у вас дома. Лёлины родные — богатые люди, у них красивая обстановка, которая рассчитана не столько на удобства живущих там людей, сколько на то, чтобы ею восхищались другие. У них, например, нельзя залезать на стул с ногами и упираться локтями о стол…
Это была моя любимая привычка, и я подумала, что уж так-то я не буду вести себя в гостях.
— А ещё чего нельзя мне делать? — спросила я с хитрецой, и Клавдичка ответила:
— Не смейся, девочка, ты сама всё увидишь.
…Швейцар открыл перед нами тяжёлую дверь с ярко начищенными медными ручками. По лестнице, застеленной бархатной дорожкой, сбежала Лёля и с радостным криком бросилась на шею к Клавдичке.
— Клавдичка, Клавдичка! — кричала она. — Ой, и Саша!
Она подбежала ко мне, сияя глазами, обняла, и я сразу же вспомнила тот вечер, когда Леля была у нас, и мне показалось, что мы с ней расстались только вчера.
— Ну, а сейчас, — сказала Клавдичка Лёле, — ты покажи Саше свою комнату, расскажи, как живёшь и учишься, а я пойду к тёте.
— Пойдём, я тебе всё, всё покажу! — Лёля крепко схватила меня за руку и потянула за собой.
Так, взявшись за руки, мы взбежали вверх по лестнице и остановились на пороге большой прекрасной залы. Стройные её окна закруглялись вверху, и между ними в голубоватой глубине зеркал отражались блестяще натёртый паркет и кресла в белых чехлах. По такому полу, наверно, нужно было ходить тихонько; я вспомнила мамино напутствие.
Но Лёля, сделав несколько шагов, раскатилась по паркету, как я сама каталась на льду, и в зеркале сейчас же отразилась её задорная и лёгкая фигурка. Она подбежала к большому роялю, подпрыгнув, села на круглый стул около него, открыла крышку — матово блеснул ряд белых и чёрных клавиш, — победоносно взглянула на меня и заиграла. Я узнала музыку: это была мазурка, только отец как-то по-другому играл её на скрипке. Маленькие крепкие руки с чистенькими пальцами то разбегались друг от друга, то снова сближались…
— Правда, хорошо? — Не доиграв до конца мазурку, Лёля повернулась на стуле так, что сделала полный оборот, и остановилась, ухватившись рукой за рояль. — Мой учитель говорит, что ни одна его ученица не запоминает так легко, как я… Это называется музыкальная память. Я и по нотам могу играть.
Она соскочила со стула, отыскала на этажерке тетрадку нот и поставила её перед собой.
Теперь она играла что-то такое весёлое, радостное, что под эту музыку хотелось танцевать, да так, чтобы подниматься, подниматься, а потом полететь куда-то. Как мне захотелось играть так же, чтобы отец мог похвалить меня!
— Ты что задумалась? — засмеялась Лёля, шаловливо проведя пальцем по всем клавишам подряд. — Тебе надоело слушать?
— Нет, нет…
— Ну, всё равно. Пойдём в мою комнату. Мы прошли через гостиную, застеленную голубовато-серым ковром, в кабинет, где на большом письменном столе стояли бронзовые подсвечники с белыми, ещё не обгоревшими свечами и большой бронзовый кабан с острыми клыками и злыми маленькими глазками, казалось, вот-вот кинется на стоящего перед ним бронзового охотника. Напротив стола висел большой портрет молодой прелестной женщины. Мне показалась, что это Лёля, и я невольно обернулась к ней.
— Это дядин кабинет, — сказала Лёля. — Тебе нравится здесь? А это моя мама. Правда, я на неё похожа?