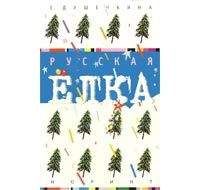Нина Емельянова - Родники
Из двери конторы вышел управляющий, Федот Осипыч, немолодой уже, плотный человек с маленькой бородкой клинышком, в накинутой на плечи шубе. Он стоял, смотрел молча на собиравшихся среди двора рабочих, потом спросил громко и визгливо:
— Это что, бунт?
— Нет, это протест за убийство невинных людей! — прозвучал из толпы спокойный, звучный голос. Голос был такой знакомый! Мне показалось, что я увижу сейчас Кондратьева, но я не могла рассмотреть его в толпе.
Получив ответ, управляющий сделал несколько шагов к стоявшим во дворе.
— Протестовать можно, не бросая работу.
Тот же звучный голос ответил:
— Чем? Протестовать нужно тем, что вас бьёт по карману.
— Нас это по карману не бьёт. Это вы за копейку готовы бастовать, хотя мы и можем всегда договориться.
— Это прежде бастовали за копейку, теперь дело другое: мы за свои политические права боремся, теперь нас копейкой не обманешь.
— Ну что ж! Тогда уволим зачинщиков — и дело с концом.
— Всех не уволите и в тюрьму не посадите… — сказал невидимый в толпе человек с голосом Кондратьева.
Толпа угрожающе подвинулась к управляющему. Послышались выкрики:
— Старика Герасимыча выбросили!.. Вот кого вы увольняете! Какой же он зачинщик? Он весь век работал…
— Кто вам дал право старика в участок водить? — крикнула из толпы женщина. — Герасимыч не вор и не пьяница, а вечный труженик.
— Про старика вопрос малой важности, — махнул рукой управляющий. — Пусть мастер Сенечкин доложит о нём. Мы с ним и будем разговаривать.
— У нас к Сенечкину доверия нет, — ответили ему.
— Ну так о старике можете сами хозяина просить. Герасимыча никто не тронет. А к чему такая демонстрация?
— Будто не знаете, к чему? — язвительно выкрикнул кто-то.
— О старике вопрос вовсе не малой важности, — снова сказал всё тот же хорошо знакомый мне голос. — Хозяева, конечно, привыкли не видеть в рабочем человека. Мы на вас и не надеемся. Только на себя!
— Вот как! — насмешливо сказал управляющий. — Мы это уже слышали. Грамотные!
Теперь мне кажется, что все эти фразы особенно звучно раздавались и как бы запечатлевались в воздухе и в памяти. Что-то в них я по-своему понимала и, главное, что рабочие заступились за Герасимыча. Понимала и то, что не всегда бывает так, как хочет хозяин. Вот когда все рабочие вышли во двор и заговорили про своё, управляющий сразу пообещал им, что Герасимыча никто не тронет.
В то время как фразы перебрасывались от рабочих к управляющему и обратно, толпа постепенно обтекала управляющего так, что он оказался в середине её, и голос его слышался теперь из глубины толпы, как и голоса рабочих.
В ворота громко застучали. По двору к воротам пробежали два сторожа. Данила и вслед за ним рыжий приказчик. Как будто их только и ждали, в ворота ввалилось несколько полицейских в чёрных шинелях с револьверами на шнурах и со свистками. Управляющий выбрался из толпы. Сейчас же раздался пронзительный свисток, тревожно вскрикнули в толпе женщины.
Мама выбежала на крыльцо, ища меня глазами, и, увидев, крикнула:
— Домой, иди! Домой!
— Пре-кра-тить! — повышая голос, выступил вперёд околоточный надзиратель. — Рас-хо-дить-ся! — В светлой своей шинели, в фуражке с красным околышем, он стоял, повелительно вытянув руку.
— Не шуми! — закричали ему.
Кто-то громко выругался, его сейчас же остановили голоса окружавших его рабочих:
— Спокойно, товарищи! Не надо беспорядка.
В ворота вбежало ещё несколько полицейских, придерживая болтавшиеся на боку шашки. Я и сейчас вижу, как всё это происходило. И снова засвистели свистки.
Словно в ответ на них, вся масса стоявших рабочих, не расступаясь, двинулась к воротам, оттесняя полицейских в сторону, приобретая на ходу порядок и превращая сосредоточенную силу в стройное движение. Сразу несколько голосов, и среди них высокий женский голос, заглушая свистки, начали:
Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе…
И, как будто давно и дружно спевшиеся, мужские голоса подхватили:
…В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе…
И вот со двора уходят уже последние рабочие. Мы с мамой видим в окно, как за воротами ряды их повёртывают налево, нам слышен их мерный твёрдый шаг. Широко и вольно звучит песня:
Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой…
С улицы послышались окрики, свистки, кто-то проскакал мимо ворот на коне. Шествие повернуло на широкую улицу, песня всё удалялась и удалялась… Издали отчётливо донеслось:
…Свергнем могучей рукою
Гнет роковой навсегда…
Все, что произошло в этот день, особенно врезалось мне в память: ещё не бывало, чтобы рабочие так уверенно собрались и вышли с фабричного двора на улицу, несмотря на свистки и окрики полицейских. В первый раз я увидела, что наши ткачи могут быть сильнее хозяина и полиции, могут не зависеть от них.
Сильными они стали потому, что действовали сообща и что в эти дни почувствовали поддержку всего трудового народа. На сотнях фабрик и заводов, во всех крупных промышленных центрах страны, повсюду происходили такие демонстрации протеста; ими рабочие отвечали на расстрел царём безоружных людей, веривших ему. Были такие люди — большевики, — которые предупреждали народ, что в рабочих будут стрелять… Но тогда большая часть рабочих ещё верила, что царь поможет им. Всего один день, который народ назвал «Кровавым воскресеньем», показал рабочим, что царь им враг, что он стоит на стороне хозяев фабрик, земель, заводов!
Рабочих людей в стране многие тысячи, их руками делается всё необходимое человеку для жизни, а хозяев гораздо меньше, но они забирают всё то, что производится рабочими. Сила хозяев только в том, что они владеют фабриками, машинами, деньгами и царь защищает их.
Теперь эти тысячи рабочих людей, охваченные гневом за гибель своих братьев-рабочих, поднялись все вместе с таким единением, какого еще не бывало до того, и почувствовали, что они большая сила, что не хозяева, не царь, а только они сами могут устроить свою жизнь. Рабочим надо не только требовать от хозяев улучшения условий своей жизни, но решительней идти на борьбу за свои политические права, и прежде всего на борьбу с самодержавием.
«Долой самодержавие!» — вот с каким лозунгом выходили теперь рабочие на улицу. Всюду рабочие шли спокойно и уверенно, с пением революционных песен, и хотя их пытались разгонять, но рабочие держались стойко, даже и против царских войск. Наступало необыкновенное время открытой борьбы рабочих — начиналась первая русская революция!
Ещё днём, после ухода рабочих, на опустевшем дворе появился отряд полицейских; как будто осматривая что-то около фабрики, они то останавливались у дверей ткацкой и красильной, то обходили двор вдоль забора. Данила с одним из сторожей сопровождали их всюду.
Я гуляла во дворе, когда в воротах показалась Клавдичка; в серой своей шапочке и с муфтой она казалась большой девочкой. Я кинулась ей навстречу и, не отпуская её руку, так и вошла вместе с нею в дом.
— Почему ты не пришла вчера? — спросила я, стараясь помочь ей раздеться.
— Лёля упросила меня остаться, — ответила Клавдичка, — она скучает там.
Это было новое освещение лёлиной жизни; — мне казалось, что ей всегда и везде весело. Я спросила:
— А ты возьмёшь меня к Лёле, когда пойдёшь в другой раз?
— Если мама позволит, возьму.
Я с надеждой взглянула на маму.
— Там видно будет, — ответила она.
Пришёл дядя Пётр и неожиданно привёл Дуняшу. Как всегда, он сразу подошёл к печке и стал греть озябшие руки. Всю зиму он ходил в осеннем пальто и сильно мёрз.
— Я от дяди Никиты, — сказал он, — взял с собой Дуню. Ксения просила. Говорит: пусть пробежится, она заработала.
— Кто заработал? — спросила я.
— Дуня.
— Дуняша, как ты заработала?
— А так, — ответила она смущённо, — я на подённую вместо мамки ходила, полы в трактире мыть…
— Как же тебя Ксения пустила? — спросила мама.
— Мамка сильно хворала, — ответила Дуняша, — а папаня уезжал, денег не стало, я и побежала вместо мамки.
Дуня была закутана в тёплый ксенин платок, её беленькое личико раскраснелось на морозе, и, когда она разделась, я увидела, что на ней надето славненькое клетчатое платьице.
— Это мне тетя Малаша сшила, — сказала она. — Она хорошая, Катюшку по всякий день к себе зовёт. И дедушка Никита Васильевич её очень любит.
В это время дядя Пётр рассказывал мне, что сегодня в Москве было несколько рабочих демонстраций.
— С Кондратьевым вчера встретились в одном месте, — сказал он. — Необыкновенный человек! Вожак!