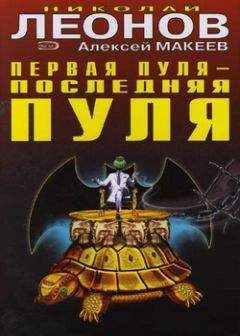Николай Осинин - Через все преграды
Илья уже знал эту «особенность» своего хозяина: обычно молчаливый и неразговорчивый, он, как только начинал говорить про немцев, постепенно распалялся, бранил их, не стесняясь в выражениях. В такие минуты он мог высказать то, о чем в другое время обязательно бы промолчал.
Однажды — это было на третий день после того, как Зирнис привез Илью в свой дом, — ему из волости принесли извещение, чтобы немедленно сдал на ссыпной пункт 120 килограммов пшеницы для немецкой армии.
— Ну, слава богу, немного, — заметила осторожно жена Яниса. — Новый урожай поспевает, проживем.
— Как же — немного! — тяжело заговорил Зирнис, отодвигая табуретку от стола и повышая голос. — Как же — немного! Телку забрали, свинью забрали, десять пудов жита свезли, коня взяли на учет, того и гляди заберут, — и мало! Это за какой-нибудь месяц хозяйство, считай, разорили. А дальше что будет?
— Что же поделаешь, — покорно вздохнула жена, — что дальше будет — одному богу известно, а новую власть судить не надо. Лучше уж отойти от греха, отдать, пока есть.
— Да что отдавать-то осталось? Последнюю корову и теленка?
— Хлеб-то еще есть…
— Тьфу ты, кочерыжка старая! — рявкнул, внезапно срываясь с места, Ян и так треснул табуретку о пол, что от нее щепки полетели. Голос его дребезжал и срывался на высокой простуженной ноте. — Отдай, отдай! Все отдай! В помощь немецкой армии! Сгори она!
Не договорив, он хлопнул дверью и вышел вон. Через несколько секунд со двора донесся пронзительный собачий визг, коротко ревнул теленок.
— С ума спятил старый! — перекрестилась хозяйка. — За двадцать годов, что с ним живу, ни разу такого не было.
Через час, снимая шкуру с прирезанного теленка, Зирнис говорил сокрушенно молчавшей жене:
— Ты не жалей. Теперь жалеть нельзя, все одно отберут. Пусть идет пропадом! Гитлеру меньше достанется.
Хозяйка вздохнула:
— Ой. Ян, Ян! Всего месяц, как немцы пришли, а ты уже такой. Что с тобой будет через год или через два?
— Молчи! Типун тебе на язык. Неужели им два года у нас быть?
Теперь, по дороге, наблюдая за ним, Илья стал осторожно выпытывать.
— А как же вы, дядя Иван, в город не боитесь ехать? Все боятся, а вы не боитесь?
— Наши не боятся! А не надо — и не едут!
— А вам очень надо? — Мальчик притаил дыхание.
Латыш хитровато посмотрел на него, погладил тыльной стороной пальцев левый ус, как будто раздумывая, что ответить. Но, пока он раздумывал, прошло столько времени, что можно было совсем не отвечать, и он промолчал.
«Да, у такого узнаешь!» — с досадой подумал Илья.
Сейчас его мирило с латышом сознание, что Зирнис так же яростно, как и он, ненавидит гитлеровцев.
Возле моста, переброшенного через сухой овраг, они догнали пожилого крестьянина в помятой соломенной шляпе, устало шагавшего по обочине дороги.
— Гунар! Добрый день! — живо воскликнул Зирнис, узнав в нем своего старого приятеля из соседней волости.
Крестьянин удивленно оглянулся, хлопнул руками по бедрам.
— Ян… О, чтоб тебя мыши съели! — На темном, цвета хлебной корки, бритом лице его появилась скупая улыбка.
Зирнис остановил лошадь, друзья пожали друг другу руки.
— В город? — спросил Гунар, с любопытством поглядывая то на Илью, то на Зирниса, подвинувшегося на телеге, чтобы освободить место. — Что это тебе взбрело на ум кататься в такое время?
— Дело есть. Ну, садись, нам, кажется, по пути.
Гунар, неопределенно крякнув, взобрался на телегу.
— Мне только до Штяуне. Повидаться там кое с кем надо.
— Что ж ты пешком? — Зирнис тронул вожжи. Телега мелко затряслась на скрипучем гравии, потом мягко поплыла по гулкому дощатому настилу моста.
Гунар приподнял соломенную шляпу, устало вытер ладонью пот со лба.
— Нет у меня больше кобылы. Забрали вчера. И корову забрали, только телок да жеребенок остались. Одним словом, крышка моему хозяйству. Эх-х! — выдохнул он и потянулся в карман за кисетом.
Скрутив цигарки, мужчины продолжали разговор.
— Да, жизнь, — задумчиво промолвил Зирнис, откашлявшись и сплевывая. — Я вот тоже, может, последний раз на своем Воронке еду: на какой-то особенный учет его в волости взяли.
— Ну-ну, как и у меня. Заберут, значит, скоро. Режет нас фрицик проклятый под самый корень, чтоб не поднялись больше.
— Ладно. Лишь бы скорей Гитлеру кишки выпустили, а там уж как-нибудь.
— Легко сказать, Ян, — как-нибудь. А что ты будешь делать, если ни коня, ни коровы на дворе? Опять в батраки?
Зирнис взъерошил пальцами длинные жесткие усы, отчего они ощетинились у него, как у кота.
— Зачем — в батраки. В батраки не пойдем.
— Или, думаешь, поможет кто? Так я тебе скажу про эту помощь. Помнишь, как после той войны тоже помощь давали? Мой батька взял три сотни в английском банке, — думал хозяйство поправить. А потом десять лет этот самый банк, будь он проклят, жилы из нас тянул, чуть совсем не разорил. По договору мы должны были на все три сотни шпигу поставить для консервного завода по средней базарной цене. А через год свинина наполовину в цене упала, потому что скупщики от завода перестали свиней на базаре скупать — им теперь по договорам везли! И начали всякие проценты расти, чуть нас самих эти свиньи не съели.
— Теперь нас не проведешь. Поумнели. Наши вернутся, — совсем другая жизнь пойдет, чем до войны.
Гунар искоса поглядел на приятеля, и его широкий лоб прорезали две резкие горизонтальные складки. Несколько минут ехали молча.
— Думал я, думал и вижу: один нам выход после войны — делать, как у русских. Потому, в колхозах машины работают, и опять же, помощь от государства. Слыхал, что рассказывали наши делегаты, которые на Украину ездили?
— Кто знает? — не сразу ответил Гунар. — Оно, конечно, раз у нас теперь ничего нет…
Телегу резко тряхнуло на выбоине, и латыш смолк. Через минуту он, хмурясь, заметил:
— Рано мы разговор про то завели. Еще неизвестно, чем война кончится. Слыхал, фрицик к Москве подходит.
— Кто это говорит? Гитлер брехнул. Нашел кому верить! Насчет войны мы должны свое понятие иметь. — Зирнис, многозначительно сузив глаза, сбоку посмотрел на приятеля и продолжал тише: — Мне один человек говорил: — по радио Москву слушал.
— Что передают? Как на фронте?
Хмурое выражение на лице Гунара прояснилось.
— Не могу тебе объяснить в подробностях. Одно скажу: здорово фрицикам наши кровь пускают. Загляни-ка ты ко мне через недельку. Обещал мне тот человек в скором времени бумагу дать, где как раз про это напечатано.
Ближе к городу стали встречаться подводы, пешие женщины с корзинками. Гунар распрощался с Зирнисом и сошел с телеги.
Когда вдали показались первые городские строения, Ян зашевелился. Он взял длинный лозовый прут и, придерживая лошадь, многозначительно сказал мальчику:
— Ты, Илюшка, держись крепче, не упади, как будем кордон проезжать. Крепче держись.
Илья удивленно посмотрел на него.
— Чего я упаду?
— Мало ли чего. Конь может дернуть или еще что, — невнятно пробормотал латыш.
— А кордон этот самый где?
— Да вон! — указал Зирнис вперед, на небольшой фанерный домик за шоссейным кюветом.
Напротив домика, точно колодезный журавль, стоял поднятый над дорогой полосатый шлагбаум. На обрубке бревна сидели два латышских полицая с белыми повязками на рукавах. Когда подъехали ближе, за кустом подле фанерного домика увидели третьего — голого, в одних черных трусах. Это был немец. Он лежал на мягком бархатном диване и загорал. Рядом на спинке стула висело его обмундирование.
Как только телега приблизилась к шлагбауму, краснорожие полицаи поднялись и загородили дорогу.
— Пропуск! — коротко спросил один.
Зирнис, остановив лошадь, протянул ему бумажку. Полицай бегло прочитал ее и вернул крестьянину.
— Что везешь? — грубо спросил он, щупая повозку глазами.
— Да яиц пару десятков и сала немного дочке, — ответил Зирнис, неторопливо вытаскивая из-под травы маленький самодельный чемоданчик.
— Вас? — лениво спросил немец с дивана, не поднимая головы.
Полицай повернулся и, почтительно приложив руку к козырьку, перевел.
— Пять яиц и кусок сала для немецкой армии, освободившей Латвию от большевиков! — потребовал полицай, поворачиваясь к Зирнису.
Второй полицай, обойдя телегу, сунул руку под слежавшуюся траву. У Ильи замерло сердце: «Сейчас гад большой ящик нащупает!»
Однако Ян не проявлял и тени беспокойства. Он очень медленно открывал чемоданчик, не выпуская из правой руки вожжи и длинный лозовый прут.
«Ну что возится! — нервничал парнишка. — Отдал бы скорей!»
Лошадь вдруг рванулась вперед с такой бешеной силой, что усердный полицай, шаривший под сеном, отлетел в канаву, сбитый с ног осью заднего колеса. От неожиданности Илья тоже едва не кувырнулся с телеги.