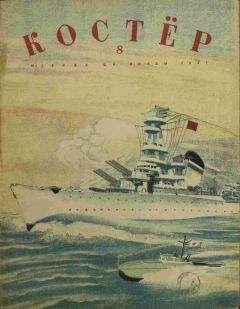Иван Супрун - Егоркин разъезд
— Нет.
— А кто?
— Не знаю.
— Кто нес шпалу, говорите! Не скажете — всех поголовно оштрафую.
Рабочие молчали.
— Молчите? Тогда я начну по очереди пытать и по глазам все равно узнаю вора, — пригрозил Самота и стал выбирать, с кого бы начать допрос.
— С меня начинайте. Я вам всю правду скажу, — подал голос со своего топчана Леонтий Кузьмич Тырнов.
— Давай выходи.
Леонтий Кузьмич подошел к столу:
— Моя правда такая: пора бы уж вам, Степан Степанович, прекратить эту канитель, а то ведь стыдно от нее делается.
— Мне не стыдно, я шпалы не нес.
— Работаем мы, — продолжал Леонтий Кузьмич, не обращая внимания на замечания мастера, — весь день на морозе, да если станем еще ночью трястись, то толку от нас никакого не будет — заболеем.
— Не заболеете. На позициях вон люди в снегу лежат, а терпят. Мы в японскую войну тоже…
— Терпят — это верно, — согласился Тырнов, — а только если так дело пойдет дальше, то терпение лопнет и у тех, которые в окопах, и у тех, которые дома.
— Это как же понимать? — насторожился Самота.
— А вы, Степан Степанович, разве не знаете, как? После японской-то войны, в пятом году терпение лопнуло у народа? Лопнуло. Ну вот, так и надо понимать.
— Прекрати свою каторжную речь, сейчас же перестань, — приказал торопливо Самота. Он страшно боялся, когда при нем затевались недозволенные разговоры. — Я тебе про шпалу говорю, а ты про что? Пятый год вспомнил…
— А почему же не вспомнить хорошее, — спокойно сказал Тырнов.
— Хорошее… — Самота выскочил из-за стола, добежал до порога, затем повернулся и топнул ногой:
— Оштрафую всех за шпалу! А до тебя, Тырнов, каторжанская твоя душа, кроме всего прочего, доберутся особо, тебе покажут, как разводить смутьянские разговоры.
После ухода Самоты некоторое время все сидели молча, не двигаясь. Потом Вощин вскинул глаза на Тырнова:
— Ладно ли ты делаешь, Леонтий Кузьмич? Ведь мастер-то и в самом деле может съесть тебя?
— Э-э… — Тырнов махнул рукой и подался в угол.
Аким стал одеваться.
— Ты куда? — спросил Пашка Устюшкин.
— Пилите тут, а я схожу еще разок, — ответил Аким. — Сейчас самый аккурат: темно, да и он ни за что не подумает, чтобы мы еще раз пошли сегодня за шпалами.
ХОРОШИЙ КАТОРЖАНИН
Егорка не раз слышал слова «пятый год».
Отец и крестный как-то сидели за столом и рассуждали о войне. Мать гремела ухватом у пылающей печи и, кажется, даже не слушала их. Но вот отец, а за ним и крестный стали говорить про пятый год. Мать притихла, поставила ухват в угол, подошла к столу и приглушенным голосом зачастила:
— Довольно, мужики, довольно, перемените разговор, не забывайте, что у стен есть уши: подслушает кто-нибудь да передаст куда следует, а потом расхлебывайся.
«Выходит, что год этот, пятый, очень опасный, раз его так боятся все, и узнавать про него надо не дома, а на улице, где нет ни матери, ни ушастых стен», — решил Егорка…
Как только они с отцом покинули барак, Егорка спросил:
— А какой это пятый год?
— Обыкновенный… тебя в то время не было на свете.
— Дяденька Тырнов говорил, что тогда лопнуло у всех терпение. Как это лопнуло?
Отец не ответил.
— И мастер из-за этого года очень разозлился, — продолжал Егорка. — Дяденьку Тырнова каторжником обозвал, съесть его хочет. Как это съесть?
— С работы выгнать — вот как.
— А за что его выгнать? Ты же сам видел: шпалу украл не он, а Аким.
— Он собирается съесть его не за шпалу, а за другое.
— А я догадался, — не отставал Егорка. — Мастер злится на дяденьку Тырнова за то, что он каторжник, он человека убил. Я один раз слышал про это.
— Тырнов человека убил? Брехня. Не верь.
— Так ведь дяденька Тырнов сам рассказывал про это.
— Это он нарочно, шутил. Он, может быть, и сидел в остроге, только не за убийство. — Помолчав немного, отец добавил: — Каторжники бывают разные: плохие и хорошие.
— А он какой?
— Он хороший.
— А если он хороший, то за что же его садили в острог?
— Про это тебе еще рано знать, и ты об этом не спрашивай и не рассуждай.
Егорка перестал спрашивать и до самого дома думал: скорей бы уж наступило «не рано». Тогда бы он сразу разузнал про все: и про пятый год, и про то, как у народа лопнуло терпение, и про каторжников.
Леонтий Кузьмич Тырнов появился на разъезде прошлым летом.
Из каких он прибыл мест, есть ли у него родные, — никто не знал.
Самота невзлюбил новичка.
Рабочие сначала не могли понять, из-за чего лютует мастер, а потом, когда поближе узнали Тырнова, поняли — такому человеку, как он, трудно уживаться с начальством, особенно с таким, как дорожный мастер.
По установившемуся, никем не писанному правилу, каждый, вновь принятый в путевую артель, был обязан после первой получки преподносить мастеру четвертную бутыль водки. Так делали Вощин, Аким Пузырев, Пашка Устюшкин и другие, пришедшие на транспорт до начала войны. В войну же, когда торговлю водкой запретили, новички дарили мастеру деньги — половину первого заработка. Кроме этого, новичок должен был в течение двух-трех месяцев, в свободное от работы время, батрачить на мастера: косить сено, таскать воду, пилить и колоть дрова, чистить стайку и т. п.
Тырнов — тихий, задумчивый человек, с первых же дней показал себя аккуратным и исполнительным работником. «Из такого хоть веревки вей», — думал Самота, однако до первой получки не тревожил Тырнова. Самота ждал причитающуюся ему мзду, но Тырнов не принес ее ни в день получки, ни на следующий день. «Должно быть, он еще не знает наших порядков. Ну, что же, придется наставить его на путь истинный», — решил Самота и вызвал Тырнова в табельную.
— Как дела? — спросил Самота.
— Ничего, идут помаленьку, — ответил Тырнов.
— Привыкаешь?
— Да уж привык, Степан Степанович.
— Доволен ли заработком?
— Спасибо: получил восемнадцать рублей шестьдесят копеек.
— Ну вот, видишь… А ведь могло быть и меньше.
— Неужели еще меньше? — удивился Тырнов.
— А как же. Ты человек новый и, должно быть, не знаешь наших порядков.
— А откуда мне их знать?
— То-то же. Заработки ваши, — принялся объяснять Самота, — они не просто так… Над ними приходится ой-ой-ой как ломать голову. А благодарность? Где она эта самая благодарность?
— Неужели начальство не замечает ваших стараний?
— Оно-то замечает, а вот от некоторых рабочих…
— Я, Степан Степанович, не такой человек, как некоторые, я говорю «спасибо».
— Спасибо… — протянул сердито Самота, — вот так же отделывается и начальство. А что мне спасибо? Ну, что? Разве из него да из поклонов сошьешь шубу?
Долго еще старался Самота наставить Тырнова на путь истинный, но из этого так ничего и не получилось: Тырнов поддакивал, сочувствовал, но денег не выкладывал. «Ну, погоди же, ты у меня запоешь», — зло прошептал Самота, когда за Тырновым закрылась дверь.
Вскоре после этого табельщик Ячменский остановил идущего с работы Тырнова:
— Пойдешь завтра косить траву.
— Так ведь завтра же воскресенье.
— Для кого воскресенье, а для кого будни.
— А оплата какая?
— Никакой, потому как это сено заготавливается для коров Степана Степановича.
— А он что помочь собирает или как? — поинтересовался Тырнов.
— Помочь. Литовку возьмешь у кого-нибудь из движенцев.
— Ладно, помогу, — согласился Тырнов.
На покос явились только двое: Тырнов и Ельцов.
— А остальные где? — спросил Тырнов.
— Они свое отработали, — ответил Ельцов, — а вот мы с тобой в долгу перед мастером.
Тырнов догадался, что табельщик обманул его, но виду не подал и работал с усердием.
В середине недели Ячменский снова остановил Тырнова:
— Приказано тебе явиться завтра после обеда туда же, куда ходил в воскресенье.
— Косить или сгребать?
— Сгребать.
— Сгребать я не умею.
— Да ты что! Ведь это же очень просто.
— Для кого просто — это верно, а я вот никак не могу научиться прислужничать, — отрезал Тырнов.
Выслушав табельщика, Самота рассердился пуще прежнего и задумал расстаться с непокорным рабочим. Сделать это не составляло большой трудности. Нужно было только написать рапорт на имя начальника дистанции пути с указанием вины неугодного работника. Самота так и поступил.
Вина Тырнова заключалась в том, что он «лодырь, лентяй и несусветный пьяница». Будучи в Протасовке, Самота подал свое донесение.
Прочитав рапорт, начальник дистанции, пожилой инженер Всесвятский, крайне удивился:
— Тырнов — лодырь и пьяница?!
— Ничего не умеет и не хочет делать, а пьет так, что в одних кальсонах остался, — живо ответил Самота.