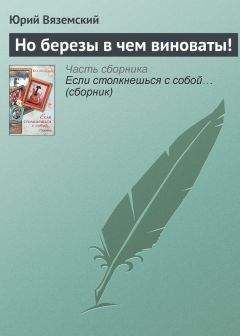Илья Дворкин - Бурное лето Пашки Рукавишникова
— Откуда ты такой взялся?
— Из Ленинграда я, из Питера.
— Ну?! Во чудила, чего ж ты сразу-то не сказал? Ой, как нехорошо, понимаешь, могло получиться, ой, как нехорошо!
— Что нехорошо?
— Да как же! Гость, понимаешь, приехал, из самого Ленинграда приехал, а я б ему в нос, я б ему навешал!
— Ну это ещё неизвестно, кто кому навешал бы, — проворчал Пашка, но мальчишка на эти слова не обратил внимания, он поглаживал Пашкину руку, осторожно дотрагивался до него пальцами, будто боялся, что тот вдруг исчезнет, как видение, как мираж.
Мальчишка расплылся в улыбке — прямо-таки до ушей.
Белейшие редкие зубы торчали у него во рту вкривь и вкось, как пьяные. И от этого лицо делалось чуть забавное и очень доброе.
— То-то я смотрю, понимаешь, ты какой-то не такой, — сказал он.
— А какой?
Мальчишка неопределённо повертел в воздухе пальцами.
— Не знаю. Не такой. Это хорошо и даже замечательно. Джамал меня зовут, а тебя?
Джамал говорил с небольшим акцентом и оттого казался чуточку таинственным, как иностранец, непохожим на других мальчишек, которых Пашка знавал.
— Ты тоже какой-то не такой, а зовут меня Пашка.
— Вот, понимаешь, замечательное дело! Ты не такой, я не такой, мы не такие, вы не такие. Ты — Пашка, я — Джамал, — скороговоркой проговорил мальчишка и снова залился счастливым смехом.
Очень он нравился Пашке.
Они сидели рядышком и молча улыбались, и им было хорошо вдвоём.
И Пашка чуял: Джамал ему уже не просто посторонний человек.
Что-то в нём было такое, что-то подсказывало: человек он надёжный и добрый.
И ещё Пашка чуял: дружить с ним будет интересно и, может быть, вот сейчас, в эти минуты она и рождается — дружба.
Она совсем ещё маленькая, вот такая — с мизинец, но если с ней обращаться по-хорошему, не грубо, а осторожно, она вырастет и окрепнет.
Глава шестнадцатая. Пашка — лихой кавалерист
Молчать дальше было уже довольно глупо, и Пашка спросил:
— За что он тебя треснул-то? За коня, наверно?
— Угу! Только она не конь. Она кобыла. Он мне правильно дал. За дело. Я, понимаешь, очень лошадей люблю, потому так говорю. И он тоже очень. Люблю скакать! Эх! А ты?
— Не знаю. Наверное, это здорово. Только я никогда не пробовал.
— Что-о-о?!
Джамал с таким изумлением вытаращился на Пашку, будто тот не человек, а марсианин или там лунатик какой.
— Как сказал? Никогда в жизни, сказал?
— Ага.
— Никогда-никогда?!
Джамал вскочил. Заметался.
— Слушай, дорогой, ну как же ты, а?! Никогда в жизни, а? Ой, что ж это! Скорей! Скорей пойдём! Какой бедный! Какой несчастный, понимаешь!
Он чуть не плакал от жалости и участия к Пашке.
Дотрагивался. Гладил по плечу. Помог встать, как больному.
И такая неподдельная, искренняя жалость и тревога была в его глазах, что Пашка всерьёз забеспокоился.
Как-то никогда раньше он особенно не страдал от этого своего жизненного упущения.
Не ездил — и ладно. Ему и в голову не приходило расстраиваться по этому поводу.
Но тут он почувствовал, что это, должно быть, очень плохо.
Это просто ужасно.
Если на тебя смотрят такими глазами и чуть не плачут от жалости к тебе — есть от чего забеспокоиться.
— Подумаешь, — нерешительно сказал Пашка. — Я и на мотоцикле, и на машине, и на глиссере…
— Что ты говоришь! — с ужасом закричал Джамал. — Что ты такое говоришь, такие глупые слова, понимаешь! Зачем мотоцикл! Зачем машина! Фу! Надо на коне! Скорей!
— А зачем?
— Ой, люди! Что он говорит?! Какой же ты человек, понимаешь? Какой бедный человек! Ах! Ах!
Он опять заметался, вцепился в Пашкин рукав и поволок его к той самой кобыле.
Она уныло щипала пыльную, жёсткую траву.
«Вокруг зерна горы, а она траву жрёт, вот дура-то», — подумал Пашка.
Он глядел на неё с боязливой неприязнью.
Джамал пританцовывал на месте от нетерпения.
Он опасливо поглядывал куда-то назад и потирал при этом прибитую шею.
Наконец решился, отчаянно махнул рукой и закричал:
— А, шайтан! Не могу я! Никогда в жизни человек, а?! Дурак и то поймёт. Полезай! — И подставил Пашке сцепленные у живота руки.
Делать было нечего.
Пашка почувствовал: откажись он и всё! Никогда ему не подняться в Джамаловых глазах, хоть десять подвигов совершай.
И он отчаянно вцепился в жёсткую, пыльную гриву кобылы, подпрыгнул и взгромоздился на горячую, живую лошадиную спину.
Седла не было. Пашка сидел охлюпкой. Кобыла стояла совершенно спокойно. Только иногда прядала ушами да вздрагивала всей кожей, будто хотела согнать Пашку, как надоедливого слепня. Пашка гордо выпрямился — ничего. Он почувствовал себя кочевником, скифом и красным кавалеристом одновременно.
«Хе, подумаешь, ничего страшного. Как на стуле», — подумал он.
— Иэ-эх! — раздался пронзительный вопль Джамала. — Пришпорь её, Пашка! — орал он. — Давай, давай!
Пашка послушно стукнул голыми пятками в гулкие кобыльи бока.
И тогда она понесла.
Она бежала ленивой тряской рысью, но Пашке показалось, что он летит птицей.
Задним местом он чувствовал лошадиный острый хребет, и это уже не было похоже на стул.
Скорее это было похоже будто сидишь верхом на заборе.
Он стукнул пятками ещё раз, чтобы она остановилась.
Но в кобыле, видно, взыграло ретивое.
Она вдруг резко повернула и поскакала на кучу зерна.
Это были самые лучшие, самые достойные минуты Пашки-кавалериста.
Когда лошадь начала взбираться на гору зерна, сидеть на ней стало очень удобно. Спина у кобылы немного прогнулась, острый хребет спрятался. Пашка выпрямился и окинул орлиным взглядом полководца чисто поле.
«Я сейчас, как Александр Македонский или как Чапаев», — успел подумать он и…
О-о! Дальше стремительно произошло что-то непонятное.
Кобыла вдруг запрыгала вниз какими-то нелепыми скачками, высоко подбрасывая зад. И в такт ей запрыгал на кобыльей спине Пашка.
Потом — раз! — он не удержался и съехал ей на шею, почти на голову, вцепился в гриву изо всех сил, но кобыла вдруг задёргалась, заподпрыгивала ещё чаще, высоко подбросила Пашку, и он соскользнул ей под шею.
Она дышала ему прямо в лицо своей разгорячённой пастью, и запах был не очень-то приятный.
«Зубы-то небось не чистит, кобылья морда», — мелькнуло в Пашкиной голове.
Он даже усмехнулся несуразности этой мысли.
И тотчас почувствовал, что медленно, но неудержимо сползает вниз и сейчас, вот сию минуту, свалится ей под ноги.
А затем… затем удар окованного сталью копыта, хруст костей… брр! Жутко подумать!
От растерянности и страха Пашка укусил кобылу за шею, укусил так, что скулы свело.
Кобыла шарахнулась в сторону, сделала ещё несколько прыжков и вдруг взвилась на дыбы.
Пашка повис у неё под шеей, держась за гриву и дрыгая, как лягушка, ногами.
За этот короткий миг он увидел всё вокруг далеко-далеко.
И степь, и ток, и несущегося к нему, размахивающего руками Джамала, и бегущего за Джамалом человека в гимнастёрке.
Того самого, который обожает костылять по шее любителям быстрой езды.
Лошадь опустилась на передние ноги и стала, как вкопанная.
Пашкины занемевшие пальцы разжались, и он рухнул на землю.
Ноги его не держали, колени мелко тряслись. А степь плавно раскачивалась, будто он плыл на огромных медленных качелях.
Он не запомнил, сколько времени просидел так в оцепенении.
Очнулся, когда его схватил за плечо запыхавшийся Джамал.
— Эй, Пашка! Пашка! Скорей бежим, дорогой! Удирать надо! Там сейчас Карагельды мал-мал голову отрывать станет.
Пашка вскочил, сперва небыстро заковылял. Но когда оглянулся и увидел разъярённого Карагельды, ноги сами понесли его в степь.
Так что ветер в ушах засвистал.
Джамал бежал рядом.
А позади грозил им кулаком свирепый защитник кобыл Карагельды.
Глава семнадцатая. Снова дорога
Пошла уже вторая неделя Пашкиной целинной жизни, а никаких известий об отце не было, а о маме, естественно, и быть не могло. Ни слуху ни духу.
Весь отряд знал уже наизусть номер машины отца: ЛЖ 34–48, но только один из десятков опрошенных студентами шофёров сказал, да и то не очень уверенно, что будто бы видел недели три тому назад машину с похожим номером в Иртышгороде.
Пашка понимал, что ему давно уже пора двигать дальше, добираться до цели своего путешествия, до села со странным крокодильским названием Кайманачка, откуда он получил письмо отца и где должна была жить мама.
Но это означало, что надо расставаться и, наверное, надолго, если не навсегда и с Дашей, и с Володькой, и с новым другом Джамалом. И было это так тяжело, что Пашка всё тянул, всё откладывал этот постылый миг прощания, в глубине души надеясь, что вот случится чудо и в один прекрасный день отец сам появится в их колхозе — и тогда не надо будет уезжать, не надо будет терять друзей.