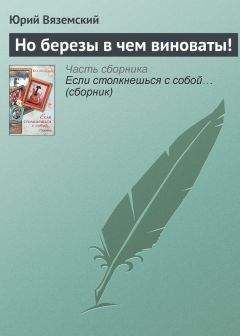Илья Дворкин - Бурное лето Пашки Рукавишникова
Здесь было уютно и тихо.
— Вот твоё место, — сказала Даша. — Мы, как приехали, сразу тебе постлали. Будешь рядом с Володькой спать. А мы с девчонками там.
Она показала на низкую дощатую перегородку.
— Ну, мытарь, теперь всё. Кончились твои приключения. Это твой дом.
Пашка молчал. Ему было хорошо здесь, но говорить он боялся — в горле ещё стоял плотный шершавый ком.
«Ишь, как заумилялся, слабак», — свирепо ругнул себя Пашка и выдавил:
— А этот… Лисиков где?
Даша сразу нахмурилась. Полные губы её сжались, стали жёсткими и прямыми. Глаза потемнели.
— Нет его. Звонить в Ленинград уехал. Из Иртышгорода хлопочет всё, хлопотун. Уехать хочет. Не по вкусу ему здесь. Ну, да с ним ещё разговор впереди. Ты не бойся.
— Я не боюсь.
Пашка поднял голову… Прямо взглянул Даше в глаза. Он и вправду ни капельки не боялся. Ещё чего! Пусть Лисиков боится.
Ему было просто противно.
Подумал, как он встретится с гладким сытым Лисиковым, с этим тихим подлецом, и стало противно.
Как он поглядит ему, Пашке, в глаза? Что скажет? Вернее, что придумает? Вот Пашка знал точно, что он скажет Лисикову. Уж эти слова сто раз повторены. Он ему скажет:
«Ты очень плохой человек, Лисиков. Ты настоящий подлец. Первый раз такого настоящего подлеца вижу».
И больше не скажет ему ни слова. Никогда больше в жизни. Даже если когда-нибудь окажется с Лисиковым на необитаемом острове. Лучше говорить разучится, чем скажет.
И сразу же перед глазами замелькали, как кадры кино, всякие забавные картинки. Так всегда бывало, когда в голову неожиданно заскакивала какая-нибудь бредовая мысль.
Вот они с Лисиковым на необитаемом острове. Кокосовые пальмы, песок, обезьяны, синие волны. Пашка смотрит вдаль. Вот Лисиков умоляет его на коленях, ему хочется поговорить, но Пашка (руки сложены на груди, взгляд суров) непреклонен. И вот у Лисикова начинает расти хвост, он с отчаяньем трясёт им, пушистым и жёлтым, перед Пашкой, но тот (руки за спиной, взгляд опять же вдаль) непреклонен.
Затем быстрые, стремительные кадры: Лисиков скачет по деревьям с макаками, висит на хвосте, что-то верещит — он доволен, он счастлив, он среди своих.
И когда приходит корабль, Пашка с достоинством вступает на борт.
— Ведь вас было двое? — подозрительно спрашивают его.
— Уж не думаете ли, что я его съел? — насмешливо отвечает Пашка. Он показывает на верхушку пальмы. Там гримасничает Лисиков, скребёт ногой макушку.
— Второй нашёл своё место, как видите, — говорит Пашка.
— Но как же вы? Как вы сохранили человеческий облик? — интересуются все.
Пашке уже надоела эта игра.
— А я, — сказал он вслух, — каждый день по утрам пел песню про серенького козлика.
— Зачем? — изумилась Даша.
Пашка вздрогнул от неожиданности и засмеялся.
— Затем, что спасался. Чтоб хвост не вырос, — крикнул он и вышел на двор. Он успел заметить, как Даша тревожно покачала головой, и совсем развеселился.
Под навесом ребята топили соломой громадную печь.
На печи попыхивала, густо булькала гречневая каша в чугунном котле метрового роста.
К Пашке никто не приставал с расспросами, разговаривали так, будто он просто отлучался на немного по своим делам и теперь вернулся.
Это было как раз то, что надо.
Пашка тоже стал топить печь.
Странно, говорят: вспыхивает, как солома. А на самом деле, если в огонь сунуть много соломы, он погаснет. Оказывается, это не простое дело — топить соломой. Её надо ворошить кочергой, приподнимать, потряхивать. Только тогда появляются в просветах языки пламени, и уже после этого солома сразу вспыхивает и с гудением вся моментально сгорает.
Утроба у печи ненасытная. А котёл огромный…
Поели каши. Очень вкусной, с дымком, горячей и сытной.
Потом к бараку подошёл самосвал, все обрадовались, засуетились, забегали, пошвыряли в кузов небольшие узелки, полезли сами.
Володька подхватил Пашку под мышки, поднял, и сразу несколько рук вцепились в него, втащили в грузовик.
— А куда? Куда едем-то? — спрашивал Пашка.
— В баню! В баню! Ух, попаримся! Ух, помоемся! Ах, как прекрасно!
Ехали довольно долго.
Самосвал швыряло на ухабах, все толкались, падали друг на друга и горланили замечательную песню с таким припевом:
Город Николаев —
Шпалпропиточный завод.
Вот идёт мальчишечка.
Мальчишечка идёт.
Он идёт-ругается
На свою судьбу-у-у,
Сам себе говорит:
В баню не пойду!
И дальше очень смешные слова про упрямого грязнулю-мальчишечку и его подругу.
Слова были не очень-то умные и даже глупые, но Пашка всё равно подтягивал во всё горло, старался всех перекричать. Но все старались тоже, и это было очень трудно — их перепеть, такие горластые.
Пашка стоял у самой кабины.
Ветер рвал куртку, трепал волосы.
Было тесно. Пашка чувствовал крепкие спины и локти со всех сторон. Было так здорово, как только может быть.
Самосвал подъехал к покосившейся, чёрной, вросшей в землю избушке и остановился.
Это и была баня.
Пашка никак не мог разобраться, что его поразило в ней с первого взгляда. Потом понял и удивился — в бане не было окон, а только узкие щели под самой стрехой.
Володька наломал себе пушистый берёзовый веник, и все тоже стали ломать.
— Во, Пашка, гляди: яркое проявление стадного инстинкта. А что в бане будет! Ведь если мы с тобой мыться начнём, они беспременно все догола разденутся, увидишь, — заявил Володька.
— А ты не начинай. Ходи немытой, зато яркой личностью.
Электричества в бане не было.
— Темно, как у негра в желудке, — проворчал Володька.
— Везде-то ты побывал, — ответил тот же ехидный голос. И все ужасно развеселились. Володька тоже смеялся.
— Два ноль в вашу пользу, — признал он, — но ещё не вечер. Матч продолжается.
Никогда ещё Пашка не мылся в темноте. Очень это было забавно.
У кого-то утащили деревянную шайку, а человек с намыленной головой тычется во все стороны, как слепой, хватает кого попало.
— Братцы, — кричит, — не погубите, щиплется мыло-то!
Кто-то на кого-то сел. Снова переполох, визг, крики.
И всё это гулко, как в бочке.
А со двора девчонки кричат, торопят. Им тоже мыться охота.
Вода здорово пахла бензином. Её привозили с Иртыша, больше чем за сто километров, в бензовозах.
Бензин сольют, потом наберут воду. Так что это была смесь. Воды побольше, бензина поменьше.
Володька пыхтел рядом, плескался, охал, хлестал веником себя и Пашку особым хлёстом — с потягом.
Берёзовые листья были клейкие, лапа у Володьки — дай бог! — тяжеленная: Пашка увёртывался и поскуливал.
— Я ж колодец у барака видел, — сказал он, кряхтя, — чего там не моются?
— Во, чудак! Там вода такая жёсткая, что волосы известковыми сосульками застывают и ломаются с хрустом. Знаешь, как это место раньше называлось?
— Как?
— Голодная степь, вот как. Тут, брат, большое преимущество есть перед другими местами. Утонуть трудно. До ближайшей лужи, говорят, километров двадцать.
Глаза уже немного привыкли к темноте. Сквозь клубы пара, как призраки, мелькали голые парни.
Пашка намылил голову и только собирался смыть, вдруг видит — в его шайке стоят чьи-то ноги.
Кто-то сидит на верхнем полке и держит свои ножищи в Пашкиной чистой шайке.
Ну, это уж было верхом нахальства!
Пашка ужасно рассвирепел.
— Эй ты! — заорал он. — С ума, что ли, сошёл? Не видишь, куда ноги суёшь? Вынь их сейчас же из моей шайки, а то…
И осекся. И смолк. И челюсть у него стала потихоньку отваливаться.
На верхней полке сидел Лисиков. Собственной персоной.
Как он туда попал, было непонятно.
«Ведь он же с нами не ехал, — подумал Пашка, — он же в Иртышгороде. Значит, и тут обманул…»
Голый Лисиков застыл, будто из камня сделанный.
Он глядел на Пашку, как на привидение.
А Пашка сквозь пар глядел на Лисикова. На толстенького, белокожего подлеца Лисикова.
«Хвоста ещё нет. Ещё не вырос у него хвост», — совершенно серьёзно подумал Пашка.
В груди у него захолодело.
«Это сердце у меня холодеет, — подумал он. — От презрения. Я гляжу на него с холодным сердцем».
Пашка почувствовал, что весь он, как сжатый кулак.
— Не узнаёшь? — спросил он у Лисикова. — Думал, я навсегда пропал-затерялся?
Лисиков молча прижимал к груди мочалку. В глазах его плескался страх.
Оглянулся Володька. Брови у него поползли вверх.
— Так вот ты где, оказывается, любитель мартовского пива?! Совесть отмываешь? — тихо спросил он.
Они долго глядели друг другу в глаза.
Молча глядели.
Потом Володька сказал коротко и твёрдо:
— Уходи. Чтобы глаза мои никогда тебя больше не видели. Иначе будет тебе очень плохо.