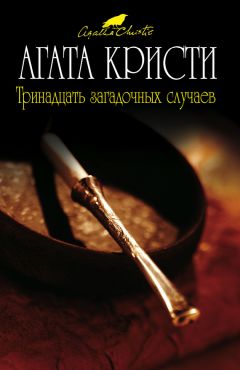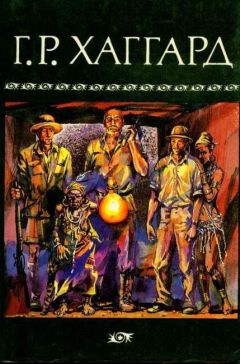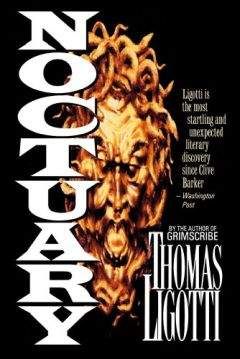Холли Шиндлер - Темно-синий
— Какого черта? — кричит Нелл, как только видит меня.
Сердце у меня чуть не разрывается. Вот какая мама мне нужна!
Чтобы вот так встречала меня, когда я заявлюсь домой в середине дня, явно смывшись из школы. Мне нужна мама, которая упирает руки в бока и хмурится, точно как Нелл. Мне нужна мама, которая кричит: «Девочка, тебе лучше оттащить свою задницу назад в школу. Я такой фигни у себя в доме не потерплю».
Я трясу головой — слезы залили глаза, как заливает дождь ветровое стекло. Я приехала сюда не за порцией нормальности — не сегодня. Сегодня я приехала за информацией. Я чуть не бегу, и от быстрого шага мои кеды повизгивают на деревянном полу.
— Вот эта фотография, — говорю я, указывая на сцену на пляже — будто бы случайно упавшие Нелл и ее дочь валяются на песке. — Где это снято?
— Во Флориде, — отвечает Нелл и смотрит на меня так, будто решила, что у меня крыша поехала. От волнения и неловкости краска заливает мне шею — хорошо еще, что это частично скрывает воротник.
— Это неправда, — говорю я. — Я была во Флориде.
Нелл усмехается и снова садится за свой стол:
— Ты прогуляла школу ради того, чтобы подискутировать со мной о Флориде. Ну, по крайней мере, с тобой не соскучишься. Быть скучным — хуже этого ничего нет в жизни. Занудство хуже эгоизма.
— Какой он был? — спрашиваю я. — Ваш муж.
Нелл вздыхает. Я внутренне напрягаюсь, потому что мне кажется, что Нелл видит меня насквозь. Только бы ничего не спросила — она такой человек, что может выпытать что угодно у кого угодно. Но она только говорит:
— Он был блистателен. — Вот так просто, как будто я спросила, в какой она ходила колледж или чем ее отец зарабатывал на жизнь. — Собирался написать «великий американский антироман» — он так это называл. Хотел создать совершенно новую форму — такую, чтобы ребята вроде Берроуза или Воннегута только рты открыли в изумлении. — Ее взгляд становится далеким.
— Но не написал.
— Да, — шепчет Нелл, и ее глаза тоже становятся похожи на ветровое стекло в дождь. — Не написал. Но пытался.
— А что с ним произошло? — спрашиваю я, хотя и так это знаю. Знаю, хотя никто мне ничего никогда не говорил. Все просто говорили: «Умер», как будто это слово отвечало на все вопросы, а не порождало сотни новых.
— Многие душевнобольные люди кончают жизнь самоубийством, — говорит Нелли и прикусывает нижнюю губу, чтобы она не дрожала, чтобы ее рот превратился в некую дамбу против грозящих вырваться всхлипов.
У мамы точно такая же привычка.
Но у меня ее нет — если уж слезы потекли, то их не остановить. И они уже текут в три ручья, когда я говорю Нелл:
— Послушайте, я, наверно, больше не приду на работу. Так что ничего такого не подумайте, если я не появлюсь. — Мой голос дрожит, сейчас кажется, что он древнее, чем деревянный пол в студии Нелл. В нем слышатся отголоски всех неудач, которые мне пришлось пережить, и маминых тоже, и даже моего деда, которого я никогда не видела, потому что в этот момент все это стало моим. Разбитые жизни моих родных придавливают меня к земле, словно дождь из камней. Душевная болезнь приходит к людям творческим с такой же неизбежностью, с какой рак легких — к человеку, тридцать лет подряд выкуривавшему по три пачки сигарет в день. Это так же легко доказать, как какую-нибудь теорему в геометрии.
Потому что искусство — это наркотик. Оно разрушает разум, раскалывает его, опустошает. А меня искусство окружало всю жизнь. Я должна его бросить, должна перестать им заниматься, должна бежать от него, прежде чем оно меня сожрет, так же как алкоголизм сожрал два поколения Пилкингтонов.
— Подожди. Аура… что ты имеешь в виду? Что значит не придешь на работу? Почему? — спрашивает Нелл.
Но я уже бегу к двери, подальше от ее фотографий, подальше от искусства, подальше, потому что знаю, что когда-нибудь, если я не буду соблюдать осторожность, окажусь во власти какого-нибудь белого халата, под завязки накачанная лекарствами, и мои руки станут непослушными, как ветви деревьев, а изо рта будет тянуться нитка слюны.
— Оставьте! — кричу я, и в груди поднимается волна ужаса. — Оставьте, оставьте, оставьте! — Хотя мне хочется крикнуть другое: «Отстаньте!»
Я поворачиваюсь, несусь к «темпо» и завожу его.
Я уношусь от студии Нелл на полной скорости, на какую только способна машина.
10
Родственники шизофреника, которым приходится заботиться о нем, сами рискуют «перегореть». Особенно если у них все идет к тому, чтобы стать такими же невменяемыми и буйными, как их подопечный.
Ранним утром мама наконец отключается, падает без сил на кровать — кажется, что она не спала уже лет триста. Где-то без четверти восемь я, послушав ее храп, решаю, что, скорее всего, она отрубилась на целый день. Я одеваюсь и беру ключи — идти пешком уже времени нет, а мне надо обязательно появиться на перекличке в школе. «Нет, миссис Фриц, дома все в порядке. Это все всплеск моих подростковых гормонов, не более того. Простите, что вчера сбежала из вашего кабинета и потом не пошла на уроки».
Я собираюсь взять свою сумку, но резко останавливаюсь, вдруг замечая, что она стоит не на полу возле кухонного стола, а на скейтборде Джереми. Я наклоняюсь и дотрагиваюсь до ободранного места на краю доски — наверно, она пострадала при выполнении какого-нибудь трюка. Я касаюсь ее так, как коснулась бы локтя Джереми, пораненного при падении. Я закрываю глаза и провожу пальцами по плотным мазкам краски, нанесенным на доску, словно по изгибам твердых мышц живота. В мозгу вспыхивают изображения, которые я могла бы нарисовать на этой доске, если бы этот процесс не напоминал прогулку по середине шоссе в ожидании, когда какой-нибудь грузовик превратит Ауру в кровавое месиво. Я выпрямляюсь и пинком отправляю доску в дальний угол кухни.
Обогрев стекол в «темпо» не действует, поэтому я еду с обледеневшими стеклами — в это необыкновенно холодное октябрьское утро мамина машина больше напоминает мамин морозильник. Я выдыхаю облачка белесого пара. Наверное, со стороны кажется, что я курю. Я жутко нервничаю, стараюсь изобразить из себя опытного водителя, а не испуганную девчонку, севшую за руль третий раз в раз в жизни. Так что я сейчас была бы совсем не прочь — покурить, я имею в виду.
Мистер Гроус, школьный владыка, не одобрил бы, если бы увидел за рулем пятнадцатилетнюю девчонку без прав, так что я проезжаю мимо школьной парковки и еду к расположенному рядом «Кеймарту». Ставлю машину рядом с автосервисом.
В этот момент на меня снисходит озарение, что пешком я вообще-то добралась бы быстрее. Черт! Я на всех парах несусь через уже опустевший Круг, через пустырь и залетаю в школу через запасной выход.
И с разгона втыкаюсь в гигантское пузо, мягкостью своей напоминающее старое пухлое кресло.
— Пропуск! — гавкает пузо, принадлежащее мистеру Гроусу, который, как обычно, одет в коричневую куртку в стиле восьмидесятых, приобретенную в те времена, когда он еще был на шесть размеров меньше.
Я лезу в воротник кофты и достаю закатанный в пластик пропуск на ярко-желтом шнурке. Учителя делают вид, что ничего особенного в них нет — просто надо показывать их, когда приходишь в школу и сваливаешь оттуда, да еще выклянчивать у администрации, если потеряешь. Ни у кого не хватает мужества признаться, чем пропуска являются на самом деле: солдатскими жетонами. Если какой-нибудь школьник вдруг решит пострелять в Крествью-Хай, Гроус будет знать, кому отправить мое обезображенное тело.
Понимаете, так меньше бумажной работы, да и меньше денег будет потрачено на дорогостоящие ДНК-экспертизы.
Я делаю попытку проникнуть в женский туалет, но не успеваю далее дотронуться до дверной ручки: мистер Гроус выхватывает из кармана ключи и запирает его прямо у меня под носом. Я уныло опускаю голову. Я могла бы сказать ему: «Мне надо пописать», но кто же будет обсуждать такие вопросы с жирным пятидесятилетним охранником? Примерно те же ощущения, как когда смотришь порнушку с участием «пятиклассниц» и обросшего шерстью учителя физкультуры. Страшно аж жуть. Кроме того, мистер Гроус, похоже, определился в своих воззрениях на меня — я не принадлежу к касте пай-девочек, я хулиганка и, значит, виновна, пока не доказано обратное, оторва, которая закурит сигарету, как только за ней закроется дверь туалетной кабинки (и, возможно, даже устроит пожар, бросив тлеющий окурок в мусорное ведро), никчемная нищуга, которая запачкает все в радиусе пяти метров от себя, — поэтому мне не дозволяется пользоваться самым чистым туалетом в школе.
Направляясь к лестнице, я оборачиваюсь и припечатываю жирдяя к месту презрительным взглядом. Надо было быть предусмотрительнее и пописать перед выходом из дому. Что мне, в самом деле, пять лет, что ли?
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28259/28259.jpg)
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28288/28288.jpg)