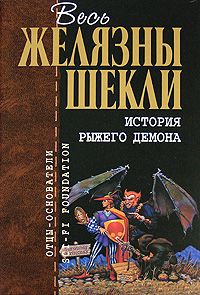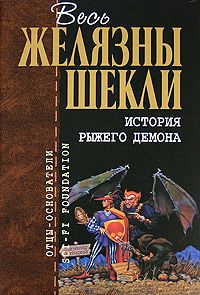Софья Могилевская - Восемь голубых дорожек
— Антон, остановись! — опять крикнула Марина.
И снова Антон не обернулся. Он точно торопился от кого-то скрыться — такие у него были быстрые шаги.
Но Маринка все же его догнала. Даже схватила за локоть.
— Чего ты не откликаешься? — начала она доверчиво. — Кричишь, кричишь ему, а он…
Тогда Антон обернулся и взглянул на Маринку. Взглянул почти с ненавистью. Бледный. Нижняя губа прикушена. Сквозь зубы бросил ей:
— Отцепишься ты от меня наконец?
Да, так ей и сказал!
И, сердито отбросив Маринкину руку, побежал от нее вниз, стуча каблуками и перепрыгивая сразу через две-три ступеньки…
А Маринка осталась стоять. Растерянная. Обиженная.
Совесть товарища
А в раздевалке, когда Антон сдернул с вешалки свое пальто и начал навертывать на шею шарф, к нему подошел Костя Великанов. Костя сперва поправил сбившиеся набок очки, потом спросил, как всегда, медлительно и чуть заикаясь:
— Т-тебе Голубева говорила?
Антон круто повернулся к нему спиной. Все в нем бушевало после сегодняшней истории с окном. А тут еще эта мелкота дурацкая, эти первоклашки! Прилипли — не отдерешь.
Нахлобучив шапку, с рюкзаком в руке, Антон молча направился к выходу. Но Костя не отставал. Он погнался за Антоном. У двери начал опять свое:
— Если Голубева тебе еще не говорила…
Тут Антон взорвался:
— Убирайся ты ко всем чертям! А то как дам!
И, хлопнув дверью, выскочил на крыльцо.
Костя так и остолбенел с разинутым ртом.
Антон же по привычке шагнул с крыльца в сторону Ленинградского проспекта. Но сам себя одернул: какой теперь бассейн? Нет, уже туда он не ходок! С двойкой?
Домой, домой… И больше никуда!
Он был рад, что на кухне его не встретила своим обычным ворчанием соседка Людмила Васильевна. Ему не хотелось никого видеть. Вот если бы рассказать все это маме или папе…
Но папа не выздоровел окончательно, и мама все еще была возле него в Барнауле. Посылала телеграммы, писала письма. Обещала, что скоро они с папой вернутся в Москву. Скорей бы только… Эх, плохо жить одному!
С яростью щелкнув ключом, Антон вошел в свою комнату. Ластясь и мурлыча, ступая мягко, словно на цыпочках, следом за ним пробрался кот Котикс. Антон плотно прикрыл дверь. Пусть хоть Котикс побудет в комнате, а то ведь словечком перемолвиться не с кем.
В комнате был, прямо сказать, беспорядок. Появись здесь мама или папа, не погладили бы они Антона по головке. А если бы сюда заглянула соседка… Ого! Тут разговоров не оберешься лет сто!
И Котикс глядел на Антона с укоризной.
С дружелюбной, правда, укоризной, но все-таки…
«Ну и пусть! — хмуро подумал Антон. — Не до уборки сейчас. Плевать, что и постель не прибрана, что ворох грязной посуды, а пол не метен, может, с самого маминого отъезда. На все теперь плевать!»
Кот чуть прищурил плутоватые глаза, фыркнул: «А меня и подавно это не касается. По полу я все равно расхаживать не собираюсь».
Антон сбросил с себя пальто. Даже не повесил, а швырнул на стул. Сам уселся на диван и пригорюнился: плохи твои дела, Антон Черных! Очень, очень плохи у тебя дела.
Котикс вспрыгнул Антону на колени и потерся об его руку. Заглянул в лицо: «Что приуныл, парень?»
«Есть от чего, — подумал, как бы отвечая Котиксу, Антон и почесал ему за ухом. — У тебя случись такое, и ты бы повесил нос».
Котикс зажмурился и даже перестал мурлыкать. Значит, понял, каково у Антона на душе.
Ну ладно, ну, получи он двойку за дело. А то ведь ни за что ни про что. А главное, Сережка Ястребцев… Трус он, вот и все! Знает ведь, что с двойкой лопнуло у его товарища соревнование!.. И все-таки, дрянь, промолчал!
Антон изо всех сил хватил кулаком по дивану. Котикс вздрогнул и посмотрел опасливо.
А сегодняшний день у Антона начался как обычно. Пожалуй, даже лучше обычного.
Он сварил себе на завтрак отличную манную кашу. Удивительную кашу! Вот мама говорила, что кашу надо обязательно варить на молоке, а есть ее надо с маслом. А он сварил на простой воде и только сахару туда насыпал.
И вышла каша первый сорт. Даже вроде бы с маслом и с молоком на вкус. А у него давно нет ни того, ни другого — с тех пор как деньги подошли к концу, он стал их осторожно тратить.
И вот утром, съев перед школой глубокую тарелку превосходнейшей каши, Антон решил, что масло и молоко вообще для каш не обязательны. Умеючи надо варить — вот в чем собака зарыта!
Когда из Барнаула приедут мама и папа, он им покажет, как люди умеют хозяйничать. Сварит кашу вроде сегодняшней, тогда они увидят, какой он молодец!
В такое хорошее утро разве могло прийти в голову, что черт знает из-за чего он сегодня схватит двойку? Этот мяч, обыкновенный теннисный, довольно потертый, Антон сунул себе в портфель перед тем, как бежать в школу. Зачем? Просто мяч попался на глаза, взял его и сунул!
А на большой перемене, когда он и Сережка Ястребцев остались дежурными в классе и взялись за уборку, Сережка вдруг увидел этот мяч.
Схватил его:
«Дай, а?»
«Бери, — сказал Антон, — не жалко!»
Сережка обрадовался — вся серьезность с него сразу слетела. Забыл про уборку и давай баловаться мячом, подбрасывать его до потолка.
«Думаешь, таким отсюда можно в тот скворечник садануть?» — спросил он у Антона, кивнув на дерево за окном.
Антон, протиравший в это время мокрой тряпкой доску, посмотрел туда, куда показывал Ястребцев. Чуть пожав плечом, ответил:
«Смотря как кинуть. Я попаду, ты — вряд ли».
Сережка посмотрел на Антона.
Подкидывая мяч одной рукой, ловя другой, он кислым голосом спросил:
«Почему это я не попаду?»
Был Сережка маленького роста, щупленький и всегда с аккуратным пробором. И брови у него были волосок к волоску, какие-то уж очень аккуратно приглаженные. Учился он, правда, здорово, на сплошные пятерки.
«А потому что меткости не хватит».
«А у тебя хватит?»
«А у меня хватит».
«Хвастун ты!»
«Не хвастун, а сумею, если надо будет залепить мячом в скворечник».
«Вот захочу и я попаду! Смогу. Не хуже тебя!»
«Брось дурить, давай помогай прибираться…»
Но Сережка не унимался. Был он и упрям и самолюбив. Как это: он, Сергей Ястребцев, первый ученик в классе, да не сможет?
«Сейчас увидишь, — сказал он, влезая на парту. — Как кину через форточку, сразу — бац в скворечник».
Антон прикрикнул:
«Говорят тебе — кончай петрушку! Стекло можно расколотить. Не понимаешь, что ли?»
«Смотри», — сказал Ястребцев и нацелился мячом на открытую форточку.
«Брось, говорю! Скоро звонок».
Но Ястребцев уже ничего слушать не хотел. Он размахнулся, кинул мяч…
Раздался пронзительный треск, и осколки, звеня, посыпались по всему классу.
Да не одно стекло, а оба разлетелись вдребезги. Мяч пробил окно насквозь и упал где-то далеко, может быть, даже за пределами школьного двора.
В класс ворвался уличный холод, а Сережка Ястребцев стал белее бумаги. Антон, хоть и не был виноват, тоже испугался.
«Я же говорил…» — начал он.
«Ты говорил, что не смогу…»— побелевшими губами прошептал Ястребцев. Глаза у него были испуганными. Видно, что здорово струсил. И он тотчас шепотом стал умолять Антона, чтобы тот его не выдавал.
«Дурак! — крикнул Антон. Потом, помолчав, со злостью добавил: — Уж ладно, не скажу».
Тут большая перемена окончилась, и в класс ватагой ворвались ребята.
Кто-то воскликнул:
«Ух, проветрено как…»
«С ума сошли — холодище напустили!»
Но заметив разбитое окно, ребята притихли.
«Вот это да! — раздался чей-то голос. — Кто же постарался?»
«Кто разбил окно?» — входя вслед за учениками, спросила Евгения Львовна, классный руководитель пятого «Б».
Ребята молчали. Но взгляды всех устремились на обоих дежурных — Ястребцева и Черных. И те оба тоже молчали, хотя по их лицам нетрудно было догадаться, что к этому делу причастны они оба.
«Так кто из вас разбил окно?» — повторила вопрос Евгения Львовна.
Антон Черных повел плечами и сказал, что он не разбивал. То же самое заявил и Сережа Ястребцев. И сколько она их ни спрашивала, они оба уклонялись от ответа. Каждый из них твердил, что не виноват.
«Но ведь само оно разбиться не могло?» — возмутилась наконец Евгения Львовна.
Пришел директор школы Степан Степанович. Он посмотрел на окно, на осколки стекла, оглядел ребят и велел на сегодня распустить класс: заниматься в таком холоде было невозможно. Антона же Черных и Сергея Ястребцева он позвал к себе в кабинет. Там долго, строго с ними говорил, требовал признания. Но оба они уперлись. Ни слова от них он не мог добиться.
«Раз так, — встав из-за стола, сказал директор, — придется вам обоим записать по двойке за поведение. Не за разбитое стекло! Со всяким может быть оплошность… А получаете вы двойки потому, что не хотите сказать правду. А человек должен иметь мужество честно признаться, если что-нибудь сделал худое. Понятно вам это?»