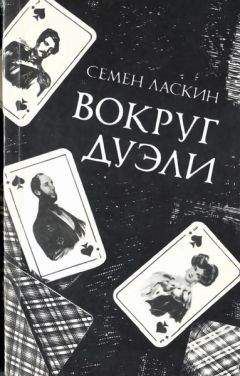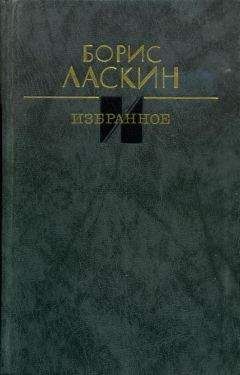Семён Ласкин - Повесть о семье Дырочкиных (Мотя из семьи Дырочкиных)
И трамваи идут быстрее.
И машины — быстрее.
Ах, если бы не поводок, то я бы вырвалась вперед, я бы приветствовала всех лаем, потому что — весна!
Саня тоже счастлив. Правда, у него мало свободного времени. Он болел и теперь к нам домой приходят его одноклассники и они вместе учат уроки и хвалят моего Дырочкина.
Я им не мешаю. И только, когда они начинают одеваться, я приветствую их лаем, потому что — весна!
Да, я не сомневаюсь в нем, моем Сане.
Я уверена, что он не только догонит класс, но может и перегнать всех. Позади были испытания и потяжелее.
И вот теперь мы бежим по нашей Охте, и люди останавливаются, чтобы дать нам дорогу.
Я люблю людей!
Люблю и детей и взрослых!
Мне хорошо с ними, но и им хорошо со мной.
Я их друг, а они мои друзья.
И поэтому, когда из нашего дома выходит на прогулку детский сад — я приветствую их лаем.
Я хорошо знаю их песню.
Они поют:
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!
Мне очень нравятся эти стихи.
Но однажды на прогулке я сама слышала, как мой Саня, мой любимый героический Санечка Дырочкин, подхватил эту песню.
Он хорошо пел.
Ах, как он тогда хорошо пел эту песню! И даже сочинял к ней сразу новые слова.
Он перечислил все нашу семью.
И Ольгу Алексеевну!
И Бориса Борисыча, а в конце он слегка улыбнулся, скосил глаза в мою сторону, и очень громко, так что весь детский сад остановился во дворе и повернул к нам головы, спел:
— Пусть всегда будет Мотя!!
— Да, — мысленно согласилась я. — Пусть всегда будем МЫ.
1975
Саня Дырочкин (при участии школьника Саши Ласкина). Стихи
Я — муравьиная королева
И глава своего муравейника…
Я видела,
знайте это,
видела,
как вы давили моих приближенных!
Я — муравьиная королева,
глава банкиров, купцов муравьиных…
Знайте,
я видела,
как вы сажали в банку моих подчиненных!
И они подпрыгивали,
делали в воздухе сальто,
И умирали…
Я крошка по сравнению с вами —
муравьи другой породы.
Вы, кажется, себя назвали «человеки»
или что-то в этом роде.
Мне трудно говорить…
Я умираю.
…Должны когда-нибудь животные восстать!
Люди в заснеженных куртках
В очереди за счастьем стояли.
Стояли долго, но смирно,
стояли днями, часами.
Стояли, чтоб получить пакетик,
в котором стекло и пряник.
Посмотришь в стекло — увидишь радость.
Листья, как индейцы,
живут в лесу.
На головах носят перья —
острые зарубинки.
У них есть копья —
наточенные иголки.
Листья, как индейцы, живут в лесу.
Шел день…
второй…
четвертый…
пятый…
Понедельник, как маленький ребенок
прыгал на одной ноге.
Суббота — седой старик
играл на шарманке,
чтоб ночью, в воскресенье, умереть,
а утром вновь воскреснуть…
А дни — это семь искр,
которые поодиночке,
через двадцать четыре часа,
гаснут.
Луна на ниточке подвешена,
но ниточка луну не выдержала
и оборвалась,
и луна свалилась на асфальт,
асфальт вечернего Ленинграда.
И звезды достали губами
до кончика луны,
и стали дуть.
Теперь луна — пастуший рог.
Малая, малая панда,
с маленькими раскосыми глазами
и ушами белыми, как снег.
Я тебя увидел вместе,
вместе с шотландским пони,
на страницах журнала.
Не сердись на меня, Панда.
Не такой уж плохой я,
как кажется Варану с острова Комода,
как кажется Морскому Слону.
Скажи хоть слово, Панда!
А если скажешь что-нибудь,
то говори со мною «на ты».
Гранит у набережной Невы.
Никто бы не подумал, что в граните
(не помню я с какого года)
лежит стихотворение.
Оно кричит и молит,
и просит выпустить оттуда,
оттуда, из серого гранита.
Дождь идет.
Завернуты в черные плащи,
в шляпах с широкими полями,
с зонтиками, как со щитами,
как бандиты проходят люди.
И памятник Пушкину во мгле,
словно провалился под землю.
И горят фонари,
не давая света.
Хоть бы кончился дождь!
И прошли эти грустные люди!
Перед дворцом Елагина
львы высунули языки.
Вы скажете: львы сделаны из бронзы,
А я вам отвечу — нет.
Посмотрите, под слоем бронзы
сидит настоящий лев.
Язык у него высунут,
в глазах ненависть страшная,
мог бы — сейчас же бросился,
но бронза ему мешает.
… И в рот ему кидают спички,
и он к такой еде уже привык.
Ко мне в окно заглянула старушка,
изогнулась, как цифра четыре.
Она нема, как рыба в океане,
и она позабыта всеми,
и ее зовут так просто:
Водосточная Труба.
Я иду и убиваю время,
За секунду делаю одно убийство,
За секунду убиваю время…
Без судей,
без площадок,
черточками размалеванных,
без сигнальных пистолетов,
бегут,
не оборачиваясь,
две собаки
по собачьему государству.
Рекордсмены собачьего бега!
Чемпионы-легкоатлеты!
…А имени у них нет.
Не дают бездомным собакам имена.
Скипетр в руках,
Ноги в стременах:
За уздцы держась,
Чтобы не упасть.
Быстрее скачи!
Только вперед!
Поворачивай.
Поворот.
………………
И крикнул он.
И вдруг застыл.
Застыли ноги в стременах.
Слова застыли на губах.
Застыл и скипетр в руках.
На остриженном кустике
две вороны сидели,
отвернувшись.
(По секрету: они в ссоре.)
И остриженный кустик,
ни в чем не виновный
стал тоже грустен,
под грузом насупившихся,
под грузом нахохлившихся…
… А внизу ходила кошка
и смотрела на ворон, как на чудо.
Что, ворон поссорившихся не видела?
1. Чайка
— Я — чайка!
Спасите меня, люди!
Я — дочь морей!
Я падаю:
2. Воспитатель
Посмотрите, дети!
Не кричать, тихо:
Тоже мне подняли:
Ох, голова:
Совсем замучили:
Итак, дети,
берите карандаши,
рисуйте чайку:
3. Чайка
— Я — чайка!
Спасите меня, люди!
Я — дочь морей!
Я падаю на камни:
4. Наблюдатель
Бушевал ветер.
На лету ломал деревья.
Дул и дул:
Хотел устроить круговорот.
………………
И море, как суфлер,
Повторяло его движения.
Только деревьев не ломало —
не было деревьев под боком.
5. Чайка
— Я — чайка!
Спасите меня, люди!
Я — дочь морей!
Я падаю:
5. Ветер
Я — ветер!
Я сын урагана!
И если люди трепещут предо мной,
когда я стекла выбиваю ногой,
то быть тебе мертвой — чайка!
6. Чайка
— Я — чайка!
Спасите меня, люди!
Я — дочь морей!
Я падаю на камни:
6. Я.
Падала чайка…
Упала.
И голову положив под крыло,
Вдруг стала похожа —
мне так показалось —
на разлитое молоко.
А рядом,
разбиваясь о камни,
как сумасшедшее мечется море,
и, замирая, слушает,
дышит ли чайка.
Павловск, Павловск,
грустные парочки…
Желтой ржавчиной выцвел весь.
Павлиньими хвостами
листья падают
в парке…
Кузнечики, кузнечики
в зеленых фраках,
на пишущих машинках,
пишут диссертации.
………………
Сверчки считают деньги
на счетмашинках,
ведь работа их —
бухгалтерия.
………………
Муравьи в бегах,
все бегают…
Они и доменщики,
они и начальники.
Муравьи работают
в три смены.
Всё бегают,
все в бегах…
Строгановский покрасили в красное,
Почему не в синее?
зеленое?
белое?
Опасно?
Яркое! Яркое!
Весь Невский разукрасили,
как карты!
Я бегу от этого каскада красок
на Литейный проспект,
ещё не покрашенный.
Осторожно,
тихо-тихо
облака плывут над Тихвином:
Кем-то изгнанные, грустные
проплывают небо тусклое,
точно рыбьи стада,
неизвестно куда.
Осторожно,
тихо-тихо,
не мешая никому,
облака плывут над Тихвином —
заплывают за луну.
Падали листики вниз головой,
падали листики — рисковали собой,
переворачивались как спортсмены,
как настоящие рекордсмены:
Разлетались любопытные,
удивляя глупыми попытками
разобраться в сложности движения, —
перелетах, взлетах и кружении.
Я принимаю сводки
и впитываю их в себя.
Я радиоприемник
и телебашня я.
Каждое дерево,
каждая ветка
передает
сводку
по большому секрету.
И я
впитываю ее в себя.
Неискренний голос цветов,
хохот трусливых ворон,
тысячи пустых слов,
даже чужой сон —
всё принимаю я.
Такой у меня дар.
Я — как радар.
Шла замученная,
шла усталая,
шла по улицам
лошадь старая.
Прямо вперед,
не разбирая дорог,
шла куда прикажут,
не выполнишь — накажут…
Все — вперед…
Вся жизнь так.
«Лошадь идет!», —
дети кричат.
Что им за дело
о чем она думает.
Главное — лошадь!
………………
И лошадь идет.
Ходят гордые
собаки сегодня,
сами себе хозяева.
Ничего, что они голодные.
Ничего, что они озябли.
Ходят толпами
орды собачьи
и собачатся между собой.
— Вот бы вывести хозяев в садик!..
— Хорошо бы пойти домой!..
Много-много.
Сотни-тысячи…
Листья,
листочки,
листики,
листья-монетки,
листья-монетки
со страхом ждут
порыва ветра.
Все трепещет
при каждом паденье листа:
«Вдруг обанкротится
банк куста!»
Люди, люди…
Дождь на улице…
Простудились статуи,
промокли от слякоти.
Воет ветер.
Сижу сжавшись —
как будто меня съедает ржавчина.
Дома серые,
серое небо,
и я,
наверное,
стихи пишу серые.
Поезд —
испуганная сороконожка —
таращит фарами во все стороны.
А наверху светляки-звезды
на него смотрят с удивлением,
как на траву сорную.
Поезд несется:
А тень от фар течет:
…Я еду зайцем.
Я бегу по Невскому
от весны с повесткою.
Голова все кружится…
Я бегу по улице,
Наступают сумерки,
Жду чего-то с ужасом.
А жонглер — тарелками,
Машут часы стрелками.
Солнце и ливень,
молний извилины…
Люди,
люди,
люди
вот-вот Невский запрудят.
Дома тают.
Машины летают.
Друг на друга налетают.
Весна!
Хаос!
Я шатаюсь.
Я в окошко смотрю:
о, как сыро!
Дождик по соснам
колотит сызнова.
Все было.
Машина несется
по этой сырости,
посыльная.
Все было…
Вьет решетку
паук
для людей,
чтоб не вылезли.
Все было.
Всего не было!
Я в тумане, как в стакане
из граненого стекла,
а фонари — пузырьками —
рассматривают меня.
Ящики опилок посреди —
положили сахар
и ушли.
А я стою в тумане,
как чайная ложка в воде.
Как изобрели пену?
Пену изобрели так:
тысячи человек дули,
дули в тысячи трубок,
или тысячи человек мыли,
мыли грязные руки,
или тысячи варягов плыли,
били воду веслами,
и сами удивились,
когда увидели пену,
всю кружевную, как церковь,
которую после создали
на острове, в Кижах.
…Так изобрели пену.
Теплоход в озноб бросает,
когда мотор включает штурман.
Все тарахтит, как бочка на телеге —
очень противно
и очень шумно…
Там остались купола и церкви,
Фотоаппараты,
щелкающие языками,
и туристы,
проверяющие крепость стенок,
и состав
того или иного камня.
И дядька,
удящий рыбу…
Он не знает,
что если есть тут живность —
то это только золотая рыбка.
На полу конфетти разноцветный, как люди на конгрессе стран и народов… Как видно случилась драка, и были убитые, а некоторых вынесли на снег, но один от страха залез на мою ногу, и висел на ней, пока я не пришел домой.
1.
Я лежу на той из полян,
где сквозь сорную траву и бурьян
торчит башки моей собаки черный телефон.
Над этим всем — луна плевком,
таким противным и безбожным,
а рядом Мотька со своим хвостом,
сверлящим воздух, словно штопором…
А я — лежу,
я — мальчик Мотеле,
я думаю о всем и ни о чем.
2.
Мотька выглядит
черным вороном,
если издали посмотреть…
Мы тут ходим
боком, боком,
не дай бог задеть.
Бежит,
язык мотается —
вперед, назад,
и уши в разных положениях
стоят.
Как фетровая шляпа,
что не носят,
и что давно на чердаке
забросили,
качается на шее,
как на гвоздике,
сердитый кубик
с черным носиком.
Как старый абажур в окне
за облаком повисло солнце.
В доме наверное спали,
Не было света в других окнах.
А рядом висела луна —
табличка с номером дома.
………………
Может тут и живут
Маргарита и Мастер?
Прямо на машинку
стихи печатаю.
Как на рояле —
мое настроение.
Пережевываю словно мяту,
небо, солнце, водяную пену.
Могу без смысла строчки резать,
составлять — как будто кубики.
Могу —
что хочешь вставить между:
хочешь — жирафу,
хочешь — пуделя.
Вытаскиваю, словно из кармана,
не разбирая,
слов-соринки:
паровоз,
ботинки,
флейту…
Что хочу, то и выбираю.
Я —
несовершеннолетний.
1966–1969