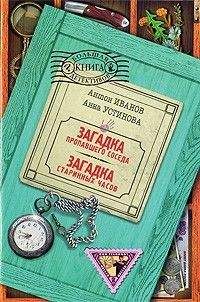Альфред Вельм - Пуговица, или серебряные часы с ключиком
Солдаты подзывают его, угощают кашей. Однако в ней Генрих почему-то не находит ни сушеных груш, ни чернослива. Тем не менее он не устает заверять солдат, что каша очень вкусная. При этом он усиленно кивает, издает какие-то звуки, кажущиеся ему похожими на русскую речь.
Вдруг кто-то хлопает его по плечу. Оказывается, это солдат с русыми кудряшками, который утром ему рожи строил и «нос» показал.
— Я глядеть, глядеть — нет Товарищ!
Они шумно здороваются, будто давно уже знакомы. Мишка дает ему газету, чтобы он оторвал себе клочок для цигарки.
— Война капут! — говорит Генрих.
— Война капут. Фашист капут!
— Пуговица? — вдруг выпаливает Генрих, указывая на нагрудный кармашек гимнастерки, застегнутый золотой пуговкой.
— Пуговица! Пуговица! — смеясь, повторяют солдаты.
Они громко о чем-то говорят. Возможно, о том, как хорошо немецкий мальчишка произнес это слово. А Генрих при этом делает такое лицо, как будто у него еще много русских слов в запасе.
Не так, как все, ведет себя сержант, которого зовут Николай. Правда, он уже не посматривает на Генриха так подозрительно, как когда они вдвоем с Мишкой въехали в деревню, но и не садится с ним рядом, не шутит. Он обходит дворы, приказывает наполнить кормушки сеном. Отобрал двух бычков и велел их забить. Стальной шлем не снимает, даже когда сам садится доить коров.
— Николай — хороший камерад, — говорит Мишка. — Мой камерад, ду ферштеэн? — При этом он хлопает себя по груди.
Но Генрих сдержан, он побаивается сержанта Николая.
По кругу передавали пузатую бутылочку. Каждый делал три глотка и тыльной стороной ладони вытирал рот. Когда очередь дошла до Генриха, сержант рывком забрал бутылочку и тут же закупорил. Поднимаясь, он махнул Генриху: ступай, мол, за мной!
Они быстро дошли до кладбищенской ограды. На колокольне развевался красный флаг. Генрих очень испугался.
— Я не вешать флаг, — заверял он сержанта. — Я не лазить колокольня.
И действительно, до этой минуты он не видел флага на колокольне. Ветер раздувал красное полотнище, оно хлопало о черепичную крышу.
Ворота оказались незапертыми, и они вошли в церковь. Здесь было прохладно. Поднялись на хоры. Затем по лесенке полезли все выше и выше.
— Позор какой! — сказал Генрих, когда они добрались до маленького окошка под самым шпилем колокольни. — И надо ж — красный! — Он раскрыл перочинный нож, собираясь срезать флаг.
Резким движением сержант выбил у него из рук ножик. Потом сел верхом на балку, еще долго размахивал кулаками, хлопал голенищами сапог друг о друга. Прошло много времени, прежде чем он вновь заговорил с Генрихом. И вдруг взял да и выбросил ножик в окошко. Генрих даже слышал, как он ударился об ограду.
— Фашист!.. Ты — гитлерюгенд!..
Страх охватил Генриха. Он во всем признается: да, он был в гитлерюгенд, был пимфом, даже хорденфюрером. Но этого он уже не скажет ни за что!..
— Я маленький гитлерюгенд. Я очень маленький гитлерюгенд…
— Фашист — фашист и есть. — Сержант пощупал материю флага, потрогал подковные гвозди, которыми он был прибит. Гвозди были ручной ковки.
«Это ж красный флаг!» — думал Генрих. Нет, ничего он не мог понять.
Здесь, наверху, солнце хорошо пригревало и было тепло. Сержант расстегнул воротничок гимнастерки, снял шлем, закурил. Без шлема он казался гораздо моложе. Над верхней губой виднелся пушок.
— Где твоя мать?
— У меня никс мать. — Неожиданный поворот удивил Генриха. — У меня никс мать, — еще раз сказал он.
— Никс мать? — удивился сержант.
— Она умереть.
И Генрих рассказал сержанту, как все было. Как он много дней ждал в маленьком городке, как бегал в госпиталь…
— Тиф это был, — объяснил он сержанту.
Рассказывал Генрих спокойно, и особой печали не слышалось в его словах, хотя он впервые говорил о смерти матери постороннему человеку…
Санитар, выходивший к нему, был ласков, все обещал, что мама скоро поправится.
— Понимаешь, у нее был тиф, Николай, тиф! — Быть может, Генрих был несколько многословен в своем рассказе, но он не волновался.
Галка, треща, облетала колокольню. Сержант, не отрывая глаз от Генриха, выпустил струйку дыма в окошко.
— Давай, Товарищ! — сказал он.
Они долго спускались по крутым лесенкам. Внизу их ослепило яркое солнце. Сержант не выходил из ограды — он кружил на одном месте, разводя траву носком сапога.
— Не надо, Николай. Ножик старый.
Нашли они нож уже на улице. Большое лезвие обломалось, кусочек облицовки ручки отскочил.
— Ничего страшного, Николай. Я больше люблю маленьким ножиком вырезать, — сказал Генрих.
Вечерело. Сержант и Генрих ехали верхом по деревенской улице. Они не торопились, лошади шли рядом. Это Мишка дал Орлика Генриху. Невысокая лошадка, мотая головой, энергично фыркала.
— Да нет, Николай, я сам видел, как они все пошли в лес. В ельнике они прячутся.
Когда они выехали за околицу, они вдруг услышали выстрел. Придержали лошадей. Стреляли довольно далеко, должно быть на небольшой возвышенности, поросшей лесом. Раздался еще одни выстрел. И сразу третий.
— Это они в нас! — сказал Генрих.
Сержант покачал головой. Немало он слышал выстрелов в эту войну и сразу понял, что это был не обычный винтовочный выстрел. Они подождали немного. Тихо.
— Давай! — сказал сержант.
Они повернули лошадей в сторону возвышенности, поросшей лесом.
У подножия, в буковом лесочке сержант снял автомат с предохранителя и, велев мальчику ждать, стал подниматься вверх.
«Наверняка это парашютисты», — думал Генрих. Он стоял, поглаживая шею лошади. Было очень страшно.
Немного погодя он выехал на просеку и увидел, как наверху по небольшой полянке ходил сержант. Гнедой тут же щипал травку. Посреди полянки рос старый каштан.
— Что там, Николай? — крикнул Генрих, поднимаясь по просеке вверх.
Под каштаном лежали трое. Все мертвые. Подъехав ближе, Генрих узнал — семья лесничего. «Боже мой! — подумал он. — Они сами себя застрелили».
— Это лесничий, — сказал он сержанту и соскочил с лошади, не отпуская повода.
Мертвые лежали очень близко друг к другу. Казалось, что они просто так прилегли на травку: девочка, мать и однорукий лесничий.
— Я видел, как они утром уходили из деревни, — сказал Генрих.
Сержант наклонился и поднял куклу.
— Зачем сами себя стрелять! — воскликнул он вдруг. — Зачем сами себя стрелять? — Он был очень возбужден и все ходил взад-вперед.
— Не понимаю я, — сказал Генрих. — Может быть, от страха они?
Сержант не слушал его.
— Зачем сами себя убивать! Зачем стрелять маленькую девочку? — все повторял он, бегая вокруг убитых. Потом он вскочил в седло и крикнул: — Пошел!
Солнце светило через листву старого каштана. Вниз они спускались лесом.
5Жители деревни подносили ветки, слеги, лапник — они строили себе шалаши, готовясь ночевать. Неожиданно они остановились: кто так и застыл, опустив руки, кто выронил ветку — все испуганно смотрели на верховых, бесшумно выехавших на опушку.
Сержант строго поглядывал из-под шлема, да и мальчишка старался придать себе неприступный вид. Поднявшись в стременах, он крикнул:
— Нах хаузе! Никс бояться! Домой давай! — При этом он очень жалел, что не взял у Мишки стальной шлем.
Женщины, успевшие попрятаться в полуготовых шалашах, теперь поодиночке выходили.
— Батюшки мои! Да это ж паренек, что утром на подставке сидел! — воскликнула кругленькая старушка.
Подходя к верховым, она тащила за собой козу и делала один книксен за другим. Казалось, что она вот-вот окончательно сядет на еловые ветки, валявшиеся везде. Остальные женщины, должно быть решившие, что и им надо последовать ее примеру, тоже все вдруг стали делать книксен.
— Давай! — кричал Генрих. — Давай домой!
Оба верховых тронули лошадей.
Жители потянулись за ними, кто шагая рядом, а кто позади повозок. Не дойдя шагов десяти до сержанта, мужчины останавливались и снимали шапки. Неловко откланявшись, они уже не смели надевать шапки и шли дальше с непокрытыми головами.
Фрау Сагорайт, проходя, хотела заговорить с Генрихом, но то и дело смотрела на сержанта и тоже делала книксен.
— Ладно, ладно уж, фрау Сагорайт! — говорил сверху Генрих, внезапно ощутив сильную неприязнь к ней. При этом он не думал о прошлом, не думал о Рыжем, но, видя, как фрау Сагорайт делает книксен, испытывал дикую ненависть. Он глубоко презирал ее. — Ладно, ладно уж, фрау Сагорайт.
Прошел и крестьянин со шрамом на лбу. Они не ответили на его приветствие, а все смотрели на голубую лошадь, пританцовывавшую рядом с кобылой, которая шла в упряжке.
Все жители деревни выглядели ужасно: оборванные, грязные, непричесанные. Генриху даже показалось, что женщины нарочно вымазали себе лица грязью.