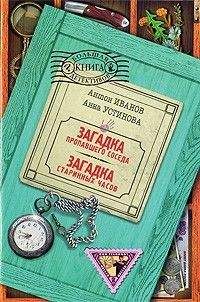Альфред Вельм - Пуговица, или серебряные часы с ключиком
Прошло немного времени, и со двора выехал крестьянин со шрамом на лбу. Поравнявшись с Генрихом, он придержал лошадей.
— Ты что, ждешь кого? Или один остался? Если один остался, едем с нами.
В повозку были запряжены два крепких коня, а слева без упряжи бежала красивая молодая лошадка с необычайно длинной шеей, шерсть ее отливала голубым. Она шаловливо тянулась губами к гриве матери.
— Ну как? — спросил крестьянин, подвинувшись на козлах и освобождая место рядом с собой.
— Чего пристал, раз сам не хочет! — сказала женщина, сидевшая в повозке.
Когда, казалось, уже все покинули деревню, какая-то старушка открыла калиточку своего палисадника и вышла, будто так — задержалась по хозяйству. За собой она вела на веревке козу и трех ягнят. Сама старушка была маленькая, кругленькая, похожая на церковный колокол.
— Гляди, расстреляют они тебя! — крикнула она Генриху.
Мальчик покачал головой. Старушке не удавалось управляться с ягнятами, и она громко ругала их.
Генрих крикнул ей вдогонку:
— Они совсем не такие!
— Враги наши?
— Ну да, враги.
Старуха обернулась.
— Не бери греха на душу, мальчик! — сказала она строго и поспешила за остальными.
Тихо стало в деревне.
2Время от времени приходят солдаты, отставшие от своих частей. Они в штатских куртках или пиджаках и в цивильных ботинках. Но есть и такие, что бредут в пропотевших мундирах, с винтовкой и противогазом. Мальчишке все интересно: он подходит к солдатам, объясняет им, куда и как идти.
Потом решает сам пройтись по дворам. Заглядывает в один, в другой… «Вон оно что!» — думает он и переходит в следующий. Вся деревня теперь его. Он тут король!
Так он добирается и до барского дома. Взбегает вверх по широкой лестнице, ногой распахивает двери. И тут же отскакивает в ужасе. Батюшки мои! В прихожей стоит огромный секач. Задрав голову, он обнажил страшные клыки.
Генрих отскакивает к двери, прижимается к ней спиной.
Секач ни с места. Генрих стучит каблуком по филенке — секач ни с места. Да это же чучело!
С досады Генрих даже плюнул в него, потом отправился дальше по переходам, залам и кабинетам.
Красиво здесь — как в сказке! Кое-что напоминает Генриху поместье Ошкенатов. В одной комнате стены красные, в другой — затянуты желтой материей. Стулья тоже желтые, и кресла, и диваны. С потолка ласково смотрят ангелы. Все ящики шкафчиков и комодов выдвинуты, повсюду валяются платья, какие-то коробочки, шкатулки. Генрих нагибается и поднимает с пола бинокль. Сразу вешает себе на шею. А сколько здесь, оказывается, часов… Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать… Семнадцать! Всюду — на стенах, под стеклом, — всюду часы! Генрих слушает. Но ни один маятник не качается — часы не бьют, не тикают. Завод кончился.
А вот еще один салон.
— S’il vous plait, madame!
Какой-то мальчишка стоит и смотрит на него. Даже глаза вытаращил. Ну и видик у него! С Нового года небось не умывался. Нахальный какой! Но вроде бы и присматривается. А похож на мальчика с пальчик: сапоги больше него самого. Нет, нет, что-то тут не так! У него же тоже бинокль… Вот ведь как можно обмануться! Это ж зеркало! Большущее зеркало во всю стену.
Выйдя снова на улицу, Генрих с наслаждением вдыхает весенний воздух. Тихо так, тепло. Слышно, как чирикают воробьи. Кладбищенская ограда вся заросла сиренью… А это что такое? Столб дыма за деревней!
Генрих обежал какой-то сарай и увидел — горит внизу, на берегу озера. Он спустился по проулку до рыбачьего домика. Горел сарай. Неподалеку стоял чужой мальчишка. Вот он наклонился и, подняв весло, бросил в огонь.
— Ты что, нарочно поджег, да?
На мальчишке косо сидела шапочка, штаны рваные. Но рубашка белая, должно быть только что надетая. Было видно, что она сшита на взрослого.
— В камышах прятался?
— Ага.
— Все четыре дня?
— Три.
Мальчика звали Войтек. Поляк. Вместе они подошли к ольшанику, где висели просмоленные сети. Подкатив большой моток сетей к горящему сараю, они толкнули его в огонь. В небо взвился черный столб дыма. Пламя затрещало.
— И веслом он тебя бил?
— Каждый день. И ногами.
Не было между ними ни робости, ни недоверия: прямо и открыто они говорили друг с другом.
Еще прошлым летом Войтек вместе с батраком-поляком бежали из деревни. Все хорошо обдумали, все приготовили, и время было подходящее: началась уборка урожая. Днем они могли спать в снопах. Так и добрались до самого Одера. Ночью переплыли реку. А на другое утро их поймали. Привезли сюда, избили и заперли в пожарный сарай.
Потом мальчишки пошли в деревню. Войтек нес за спиной рюкзак.
— Ты что ж, так пешком в Польшу и пойдешь? — спросил Генрих.
— До Нарева надо добраться. Там у меня мать.
На прощанье они пожали друг другу руки. Уходя, польский мальчик обернулся и помахал Генриху. Вскоре он скрылся в лесу. Но некоторое время Генрих еще видел белую рубашку, мелькавшую между деревьев.
Время от времени здесь слышались отдельные выстрелы. А иногда и пулеметная очередь. Правда, довольно далеко. Казалось, война обогнула деревню, прошла где-то стороной.
Позднее Генрих нашел в камышах две рыбачьи лодки. Но хозяин, прежде чем уйти, повыдергал паклю, и лодки затонули. Из воды торчали носы и деревянные уключины.
«А правда, здесь многое похоже на то, как было дома, но там все-таки лучше! — думал Генрих. — Там на дне озера у самого берега — камни, а под камнями вьюны прячутся. Летом ребята, закатав штаны, ходили по воде, поворачивали камни и прямо вилами выбирали вьюнов».
Сперва-то они дадут предупредительный выстрел, решил про себя Генрих. Он тогда выбежит на деревенскую улицу и знаками даст русским танкам понять, что в Гросс-Пельцкулене нет солдат.
Неподалеку от затопленных лодок Генрих нашел двадцать три карабина фольксштурмовцев. Он вытащил их на берег и аккуратно уложил в ряд.
3Показались двое на лошадях.
«Ишь, хитрецы какие! — подумал Генрих. — Взяли да отняли у здешних крестьян пару лошадок, да ладных каких!»
Генрих крикнул нм издали:
— Вы правей держитесь, мимо церкви, если вам на мост через Хавель!
Мост, правда, парашютисты давно уже взорвали.
А лошади не рослые, приметил Генрих. Гривы густые, хвосты длинные, до самых бабок. И ноги мохнатые.
— Что-то не видно русских танков. Не скоро еще, наверное… Ничего не слышно?.. — спрашивает Генрих, похлопывая мощную шею лошади.
Молчание всадников озадачивает его. Генрих поднимает голову… Да это ж!.. Каски совсем не такие!.. И форма чужая!.. Генрих роняет поводья. Отступив два шага, он натыкается на забор.
— Ты, маленькая, лошадка пугаться?
Руки Генриха вцепляются в штакетник.
— Лошадка нет рога! — говорит солдат. Достав из кармана табак, он насыпает его на клочок газетной бумаги. Из-под стальной каски выбиваются светло-русые волосы.
Сержант рядом с солдатом смотрит на мальчишку с прищуром, будто взглядом своим хочет просверлить и карманы куртки и голенища сапог.
— Говори, где камерад?
— Камерад?.. Нет камерад… Деревня — нет камерад!
Подумав немного, сержант опять спрашивает:
— А германски парашютист?
— Никс парашютист. Деревня никс парашютист.
Лошади трогают. Из-под копыт поднимается облачко пыли. Вот они уже доскакали до кладбищенской ограды. Русый солдат оборачивается, весело подмигивает и показывает «нос».
А Генрих все так и стоит, накрепко вцепившись в штакетник.
4И откуда столько маленьких повозок взялось?
Через деревню тянется нескончаемый обоз. И все такое чужое! И так интересно: над головами лошадей — деревянные дуги, а сами лошадки маленькие и мохнатые. Так и кажется, будто они в своих гривах принесли сюда ветер далеких степей.
Мальчишка никак не может взять в толк, как это русские добрались так далеко на этих маленьких повозках! Солдаты сидят на шинелях или прямо на соломе. Иногда кто-нибудь кричит ему что-то, но Генрих ничего не понимает, однако кричит в ответ:
— Здравствуйте! Здравствуйте!
Нравится Генриху простота и непринужденность солдат, нравятся и маленькие лошадки.
Словно завороженный, он пробирается между повозками, подкидывает лошадям сено, помогает распрягать, бежит показывать, где помпа. И очень скоро замечает, что его, оказывается, окрестили новым именем — «Товарищ». Все так и называют его «Товарищ». Только диву даешься, откуда везде уже его новое имя знают.
— Давай, давай, товарищ!
Солдаты подзывают его, угощают кашей. Однако в ней Генрих почему-то не находит ни сушеных груш, ни чернослива. Тем не менее он не устает заверять солдат, что каша очень вкусная. При этом он усиленно кивает, издает какие-то звуки, кажущиеся ему похожими на русскую речь.