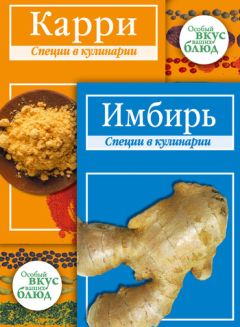Геннадий Михасенко - Пятая четверть
— Сучок вроде, — приглядываясь к трещине, сказал Антон, придерживавший рейку.
— Черт! Не заметил.
— Темнеет. Может, хватит, Гош, а то на работу опоздаем. И есть охота! Мы же тут с трех.
— Не опоздаем. Еще десять минут. Узел-то надо кончить. Шевельни костер, а то правда темнеет. — И Гошка задрал голову: мол, что это там происходит на небе.
А на небе ничего особенного не происходило. Был обычный вечер. Наливаясь изнутри траурным сумраком, деревья будто сдвинулись тесней и замерли, хороня солнце. В зеленую шахту, образованную ими, в это рыхлое жерло, из которого мальчишкам предстояло взмыть ввысь, вливалось что-то мутноватое. Было тихо. Словно эхо тишины доносилось журчание ручейка, да и оно скорее мерещилось, чем слышалось.
Ногами сдвинув к середине головешки и угли, Антон кинул на них несколько испорченных реек. Из пепла и черноты, почуя жертву, тотчас высунулись огненные язычки и лизнули сухую древесину.
— Во-от, — протянул Гошка довольно. — А завтра я дядькин фонарь принесу — прожектор, хоть всю ночь работай… Ну как, похож издали на вертолет?
— На вертолет? — переспросил Антон, склоняя голову то на одно плечо, то на другое. То, что стояло перед ним на трех чурбаках — деревянный щит с торчащими вверх реечными рамками, — пока не походило вообще ни на что. — Не знаю, — ответил Антон уклончиво.
— Понимал бы ты!.. Иди-ка поддержи лучше!.. Тебе обязательно винты, чтобы походило. Сегодня вот привезем доски, если их не изрезали… Главное — машину найти. Черт его знает, согласится ли кто. Не шуточка ведь — плахи! Воровством попахивает. А что делать?.. Не вытесывать же самим из бревен? — рассуждал Гошка, бережно ввинчивая шуруп в новую рейку. — Крепче прижимай, так. Хоть бы не треснула, хоть бы… Хоп! Все!.. Ну вот, полкаркаса есть. У-у, хорошо, — приговаривал Гошка, ощупывая и пошатывая рамки. — Я уже чувствую, как мы летим, Антонище! А ты чувствуешь?.. Залей костер.
Пока Антон ходил со старым чайником к ручью и тушил огонь, вздымая клубы пепла, Гошка накинул на каркас большую прорезиненную холстину, и сразу точно двухметровая глыба выросла на поляне.
— Так чувствуешь ты или нет? — опять спросил Гошка, замерев перед этой глыбой.
— Трудно, Гош, сказать… Я очень устал.
— Намек понял. Пошли.
На железнодорожную насыпь мальчишки выбрались еще при свете, но густо двигавшиеся с востока низкие, черные облака быстро тушили последние проблески, так что Антон подошел к дому уже в полной темноте — за какие-то десять минут тучи намертво скрутили небо. Запахло дождем.
Еле различимая у навеса, Тома снимала бьющиеся на ветру белые пеленки и что-то бормотала.
— ¡Buenas tardes! — крикнул Антон, останавливаясь у мотоцикла.
— A-а, явился!
— Дела. — Антон накрыл машину листом железа и спросил: — Помочь?
— Нет. Уже все. Лучше послушай, что я выучила! Entre nubgs purpurinas peregrines de azulado tornasol, tentio el iris a lo lejos los reflejos de los colores del sol.
— Это о летней грозе, о радуге, — появляясь из темноты стазом белья, прижатым к бедру, проговорила Тома.
Она перешла на русские слова так плавно и певуче, что Антон по какой-то странной инерции непонимания сперва не уловил их смысла, потом, спохватившись, как бы догнал их и улыбнулся. Тома тоже улыбнулась, поставила ногу на ступеньку и устало сдвинула таз на колено. Она была в своем халате, усыпанном красными и белыми кольцами. Верхняя пуговица этого проклятого халата вечно расстегивалась, и ворот так расходился, что Антон не мог смотреть на Тому.
Неожиданно подхватив таз, Антон прижал его к животу, шагнул в избу и загремел, запнувшись о порог.
— А, черт! — вырвалось у него.
В цинковой ванне, стоявшей на двух стульях впритык к кровати, зашевелился и закряхтел Саня, а в самой кровати приподнялся на локтях Леонид, обычно засыпавший на часок перед ночной сменой.
— Что, пора? — спросил он, промаргиваясь.
— Да, да, Лёнь, вставай, — ответила Тома, спеша к ванне. — Чай уже закипает… Чш-ш, маленький мой!..
Леонид потянулся, заломив здоровую руку за голову, вздрогнул, окончательно просыпаясь, сполз с постели и, похлопав Антона по плечу, еще неверной походкой протопал за печку умываться.
В половине двенадцатого, когда братья дожевывали последние куски, пошел сильный дождь. Он даже не пошел, а прямо упал сразу и зашумел монотонно, как душ, не усиливаясь и не ослабевая.
— Это еще что? — воскликнул Леонид, вскакивая со стаканом в руке и высовываясь наружу. — Откуда?
— Тома наколдовала, — сказал Антон. — Махала пеленками и читала испанские стихи про грозу.
— Да, да, — подтвердила Тома. — Я виновата.
— Ни раньше и ни позже, а именно, когда начинается моя смена. Какая гнусность! — продолжал ворчать Леонид. Он допил чай, уселся на порог. — Придется пережидать…
Пока Антон был голодным, усталость, накопившаяся за день и от двухчасового вождения мотоцикла по избитым переулкам Индии, и от работы в лесу, решительно не проявлялась, но теперь сытость ударила в голову хмелем и словно растворила в теле все кости. Антон плюхнулся на порог и глубоко вздохнул.
Тома прислонилась к косяку над Леонидом и протянула руку, другой придерживая у горла ворот халата.
— Дождик теплый, как щелок, — сказала она. — Он ненадолго… Хочешь знать, какими стихами я вызвала его? — Тома прочитала и перевела.
— Не-ет, — протянул Леонид. — Братское небо на это не клюнет, тут вам не Гвадалахара… Вот:
— Гроза прошла — еще курясь, лежал
Высокий дуб, перунами сраженный,
И сизый дым с ветвей его бежал
По зелени, грозою освеженной.
А уж давно, звучней — полней,
Пернатых песнь по роще раздалася,
И радуга концом дуги своей
В зеленые вершины уперлася.
Пожалуйста, картина, хоть ощупывай.
— Я же не ради смысла учила, а ради словарного запаса, — за чубчик повернув голову Леонида, сказала Тома.
— Ну и зря, надо сочетать…
Дождь шумел на крыше, мелко брызгал в лицо, барабанил по листу кровельного железа, накинутому на мотоцикл… Антон любил дождь, любил слушать его шелест и представлять, что в дожде бьется заколдованная музыка, которая все силится расколдоваться, но которой для этого не достает чего-то, и она так и остается дождем. «И радуга концом дуги своей в зеленые вершины уперлася… в зеленые вершины уперлася…» Слова эти перемешивались в голове с шумом дождя, и в них тоже чудилась музыка, причем очень ясно, почти слышимо. Будь тут пианино, Антон сейчас бы… Пальцы его зашевелились. «А интересно, — вдруг подумал он, — если открытое пианино выставить вот под такой ливень, хватит у струи силы выбить звук?..»
— Что делается, а! — проворчал Леонид. — Что делается!.. Иди-ка ты спать, Антон, не майся. Все равно я сам поведу мотик. Знаешь, какая будет грязюка? Иди.
— Нельзя. У нас с Гошкой сегодня дело.
— Эка беда! Отложите — по техническим причинам.
— Говорю, нельзя.
— Ух ты, батюшки!.. Это что за идею вы там воплощаете? Смотрите только не взорвитесь, не дождавшись шестерни.
— Не взорвемся. А вот шестерню побыстрей бы надо.
— Все надо побыстрей… У нас вон в цехе гора сломанных вибраторов, думаешь, не надо быстрей?..
— А что они строят? — почему-то у Леонида спросила Тома.
— Кто их знает. Может, вечный двигатель. Тайна.
— Антон, неужели уж такая тайна? Ты же вон аж похудел весь от этой тайны… Каждый день дотемна, дотемна. А, Антош?
— Да, та-ак, Гошке помогаю… — последние буквы растворились в затяжном, каком-то двухступенчатом зевке.
— Ну вот, пожалуйста, — заметил Леонид. — Иди спи. И Гошка твой пасонет сегодня, вот увидишь.
— Из-за дождя-то?.. Что Гошке дождь!
По закону Гошка мог работать только в первую смену, но он договорился с бригадиром и выходил вместе с Зориным в ночную. Антон, привезя Леонида на полигон, сперва или помогал по мелочам бетонщикам, или раскатывал в кабинах крановщиков, или бродил по арматурному цеху, следя за хищными клевками машин для точечной сварки, а потом заваливался спать. В четыре часа, отработав свое, Гошка разыскивал его либо в стружках возле опалубочного цеха, либо в самом опалубочном возле горячих батарей, либо на теплом полу пропарочной камеры. И они отправлялись рыться в старых механизмах и инструментах, выискивая нужные детали. И вот очередь дошла до винта…
Антон плотнее прижался к косяку, закрыл глаза и сразу увидел, как в ночи с ревом движется вереница МАЗов-будок с рабочими. МАЗы подталкивают друг друга лучами фар, как руками, а между ними на мотоцикле катит он, Антон. Леонид тревожно дышит ему в ухо и то и дело отрывисто командует: «Сбрось газ!.. Вторую!.. Тормоз!» Громадина МАЗ сильно подпрыгивает на ухабах. Антон видит свою четкую тень, пляшущую на его кузове… Вот и промплощадка. Правый поворот — и они подкатывают к полигону. Бетонщики только что открыли пропарочные камеры. Пар скрывает рабочих, и полигон кажется безлюдным, а движение кранов, похожих на звероящеров, и щёлканье электромагнитов на их тормозных колодках, как щелканье зубов, наполняет эту безлюдность первобытной жутью. Но вдруг на паровых завесах то там, то тут возникают угловатые фигуры, мигом разрастаются до колоссов и пропадают. Еще издали слышно, как кричит бригадир бетонщиков Варвара Ипполитовна о том, что им снова оставили нечищеную бадью и сломанный вибратор, что у нее уже нет сил бороться с этаким хамством… Леонид отсылает Антона в контору — посмотреть по журналу, как сработали другие смены. Антон останавливается на крыльце конторы и долго смотрит на далекие окрестные огни. Их много, особенно там, где строится плотина, где лощина выходит к Ангаре. В этом вырезе прямо что-то живое, со светящимися колючками, копошится, шевелится и того и гляди уползет за кромку. Но все эти огни не нарушают непроницаемости ночи. Полигон, освещенный полдюжиной прожекторов, выделяется оазисом в пустыне тьмы. Антону приятно, что он из этого оазиса… Только чья это холодная рука хватает его за пальцы?