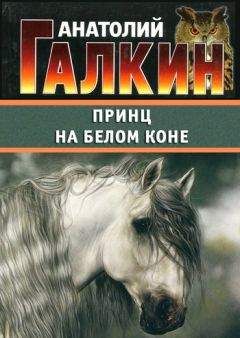Ким Васин - Сабля атамана
— Я ведь из леса шел, — испуганно начал оправдываться Исатай, — а он, видать, сидел у дороги…
Темирбай, слушая предателя, печально покачал головой.
— Что, не нравится? — со злобной усмешкой сказал офицер, заметя страдальческое выражение на лице Темирбая. — А помогать врагам государыни императрицы тебе нравилось?
Неожиданно Темирбай покачнулся: не держали слабые старческие ноги.
— Стой смирно, чего пляшешь! — прикрикнул на старика капрал.
— Пусть пляшет. Сегодня ему еще придется здорово поплясать.
Офицер, положив белую руку на эфес палаша, оглянулся кругом, и вдруг его брови поднялись вверх, мутные голубые глаза широко и удивленно раскрылись.
— Что это такое? — спросил он, показывая на красное зарево, поднимавшееся за лесом.
Капрал и солдаты, притихнув, смотрели на зарево. Потом капрал тихо проговорил:
— Видать, пожар, ваше благородие. Мужики балуют. Опять подпалили чье-нибудь имение.
Темирбай понял, что речь идет о пожаре. По его лицу пробежала улыбка, и он сказал:
— Красиво!
Офицер вздрогнул и быстро повернулся к толмачу:
— Что он говорит?
Толмач перевел.
— Красиво, говоришь? — прохрипел офицер. — Ты, старый ворон, ничего не увидишь красивее петли. А ну, вздернуть бунтовщика!
Капрал достал из сумки длинный аркан.
Темирбай стоял не шевелясь. Ветер раздувал седые пряди его волос и бороды. Старик все время оглядывался по сторонам, кого-то ища полуслепыми глазами.
И вот он увидел того, кого искал: в стороне, возле кустов, дрожа от страха и боли, стоял Яний. Не жаль Темирбаю расставаться с жизнью: достаточно пожил он на этом свете, — жаль ему оставлять маленького внука.
Горе да нужда ожидают мальчонку. Ох, негоже оставлять сироту одного-одинешенька, без отца, без матери, без родной души…
Видно, и Яний сердцем почувствовал горькие думы деда и, забыв страх, бросился к Темирбаю, вцепился в него худыми ручонками и закричал:
— Ой, дедушка, я боюсь!
— Не бойся, внучек, — ласково ответил Темирбай и с ненавистью посмотрел в глаза офицеру. — Не пугай! Жить я умел и умереть сумею. Не в новость нам умирать от рук господ…
— Быстро. В петлю его… — приказал офицер и вдруг осекся.
Совсем близко послышался топот мчащихся коней, послышались крики людей:
— Сюда! Они здесь!
Солдаты не успели опомниться, как из-за деревьев, шумя и стреляя на ходу, вылетела лавина конников. Молниями сверкнули сабли, черные стрелы, со свистом разрезая воздух, полетели к омшанику.
— Башкиры! — в ужасе закричал офицер, но в это мгновение стрела впилась ему в шею, и он, бессильно выпустив поводья, свалился с лошади.
В один миг солдаты оказались окруженными.
— Складывай оружие! — подняв вверх копье, громко крикнул богатырского роста джигит в блестящей кольчуге.
Неожиданно пришедшее избавление потрясло старика: он опустился на траву и заплакал, как ребенок.
— Ну, дедусь, не плачь — беда миновала, — уговаривал его Эшпат, развязывая руки Темирбая.
Айт, сняв свой алый кафтан, набросил его деду на плечи:
— Одень, старик. Простынешь.
— Дедушка, пойдем в омшаник, — тормошил деда Яний.
И старый Темирбай, словно очнувшись, поднял голову. Десяток крепких рук подхватили старика и помогли ему встать.
Поднявшись, Темирбай шагнул к Исатаю:
— За сколько продался, кривая душа? Не нужны тебе стали сородичи да соседи?
Бледный Исатай склонился и закрыл голову руками, ожидая удара.
— За предательство — одна плата, — сурово проговорил Айт.
* * *На следующее утро, когда на лугах еще не сошла роса, отряд Айта уходил из деревни в поход.
Айт и Эркай, которого вызволили из тюрьмы, заехали к Темирбаю в омшаник.
— Прощай, дедушка, — приветливо проговорил Айт. — Уходим в вольную армию царя Пугача, давно ждет нас к себе батыр Салават. Вот заехали к тебе попрощаться…
— Счастливого пути, джигиты. Надо идти, коли в бою можно добыть вольность.
— Джигит рожден для боя. Об этом и в песнях поется, — ответил Айт и лихо заломил островерхую шапку.
— Стойте как богатыри, — тихим голосом напутствовал дед Айта и Эркая.
— Дяденька, возьми меня с собой, — вмешался в их разговор Яний и уставился на Айта бойкими черными глазенками.
— Мал еще, подрасти, — ответил Эркай.
— Салават в четырнадцать лет стал батыром, — сказал Айт, кладя руку на плечо мальчику, — расти и ты батыром. Приедем в следующий раз и возьмем тебя с собой.
— Прощай, дед!
Айт и Эркай вскочили на коней.
— Да будет счастливой ваша дорога!
Джигиты скрылись за поворотом, и уже издали послышалась их песня:
Агидель[16] — прекрасная река,
Агидель — серебряная река,
Один берег — в камышах,
Другой берег — в камнях…
Старый Темирбай и Яний стояли на пороге и слушали, как звенела, отдавалась в утреннем дремлющем лесу песня.
В нашем сердце радость,
Когда восходит солнце.
И сердца наши горят.
Слыша радостные вести.
Восходит утреннее солнце,
Освещает землю,
В нашем сердце радость,
Когда восходит солнце.
Красной зарей запылал восток, сверкнули первые светлые лучи восходящего солнца. Засверкали на травинках чистые капли росы.
Темирбай вынес из омшаника гусли и тронул звонкие струны. И песня, прекрасная, как восход солнца, сливаясь с пением птиц, поплыла над лугами, наполнила зеленый лес.
Словно чистый ручей, льется песня. И чуется в ней светлая душа народа и его заветное стремление к свету и счастью. Плывет, летит песня навстречу восходящему солнцу, словно сказочная птица.
Это поет горячее сердце старого Темирбая, воздавая хвалу подымающемуся в алых лучах солнцу и храбрым джигитам, вышедшим на бой за народное счастье.
Темирбай перестал играть:
— Ну, Яний, пора в дорогу.
— Дедушка, ты уходишь? — схватил Яний деда за рукав.
Темирбай молчал. Внимательным взором окинул он все вокруг, и в его глазах блеснули слезы. Увидев на глазах деда слезы, Яний тихо заплакал.
А Темирбай думал, прощаясь с родным домом: «Ушли храбрые джигиты. А что мне делать? Добро сторожить? Да пропади все оно пропадом! Надо и мне идти, пока не поздно. А с мальчонкой еще сподручнее: идет себе нищий слепец с поводырем — и никакой нас солдат не остановит».
Молодо вспыхнули глаза Темирбая:
— Коль не в силах наши руки держать саблю, — сказал дед, — то пойдем мы с тобою разжигать огонь в сердцах людей. В великом бою песня — большая подмога…
— Куда же мы пойдем, дедушка?
— К батюшке нашему мужицкому — царю Пугачу… К тем, кто бьется за нашу свободу за наше счастье.
Листовки
Жучков, красноносый, усатый урядник села Юрина, громко топоча сапогами, вбежал в волостное правление и с остервенением захлопнул за собой дверь.
— Опять разбросали, дьяволы! — замахал он перед носом волостного старшины мятыми листками бумаги.
— Опять? Чья же это работа? — Старшина, сидевший за большим дубовым столом, крякнул и удивленно поднял брови. Ну и времена настали: что ни день, то новая неприятность.
Жучков хотел еще что-то сказать, но тут заметил, что в кабинете, развалясь в мягком кресле, сидит его начальник — пристав первого полицейского участка Петров.
Багровый, тучный, с шеей, едва умещавшейся в воротнике мундира, пристав побагровел еще больше.
— Где? — коротко спросил он.
— Одну, ваше благородие, отодрал в конце села с забора, — вытянувшись, отчеканил Жучков, — а другая висела на винной лавке.
— Дай сюда!
Пристав выхватил из рук урядника листовки и стал их рассматривать.
Сразу бросился в глаза заголовок: «Организуйтесь под знаменем социал-демократов!» — а внизу хорошо знакомая приставу подпись: «Социал-демократическая организация. Н. Новгород».
— Так… Ясно, — проговорил пристав.
Листовок с такой подписью за последние годы побывало в его руках немало. Три года назад ему удалось в Юрине выследить и арестовать подпольную группу, возглавляемую учителем Константином Касаткиным, распространявшую революционные листовки.
Касаткин отсидел два года в тюрьме, и, хотя после освобождения он не вернулся в Юрино, листовки в селе продолжали появляться по-прежнему. Кто-то разбрасывал их по ночам на тракте, расклеивал по улицам.
— Видать, кто-то из касаткинских остался в селе, — сказал пристав, пряча листовки в портфель.
Убрав листовки и закрыв портфель, он заложил руки за спину, прошелся по кабинету и остановился у окна.
— И его надо искать на этой улице, — сказал он, приподымая штору и глядя на улицу тяжелым взглядом.