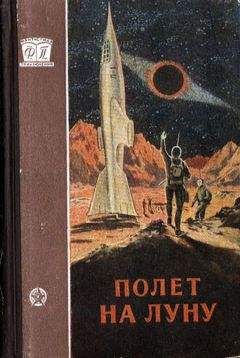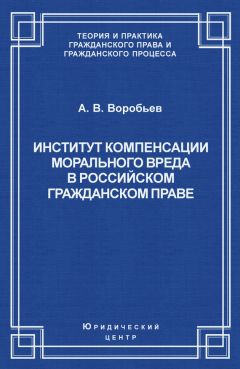Олег Никонов - Политика Российской Империи на Среднем Востоке во второй половине XIX в.
К сожалению, к концу 50-х – началу 60-х гг. XIX в. российские дипломаты еще не были готовы до конца отстаивать государственные интересы без оглядки на правила «дипломатического политеса». По устоявшейся порочной практике возложили всю вину на отечественного коммерсанта, который попытался с помощью миссии и консульства вернуть выданные ранее иранскому предпринимателю авансы. В частности управляющий делами посольства в Тегеране А. Е. Лаговский осенью 1857 г. отмечал: «Пользуясь полным покровительством, как императорской Миссии, так и консулов наших в Персии, а, вследствие сего, и возможным содействием персидских властей, агенты означенного дома вели, однако, свои дела столь небрежно, что потеряли всякое доверие к себе со стороны торгового сословия в Персии»[74].
Раздражение дипломатов деятельностью коммерческих структур Российской империи в Иране объяснимо. Во-первых, дипломатам нередко приходилось решать вопросы, искусственно раздутые до состояния открытого конфликта. В качестве примера здесь уместно упомянуть, так называемое «дело консула Черняева». В апреле 1861 г. в миссию пришла анонимная жалоба, в которой Черняев обвинялся во взяточничестве, недоступности и т. п. Было проведено следствие, в ходе которого выяснилось, что инспирировал «дело» некто Калуст Вартанов, лично обиженный на политику дипломата, причем не иранец, а подданный России. Консул Н. А. Аничков, который проводил расследование, по этому поводу на имя Е. П. Ковалевского писал: «Горе наше в том, что русские подданные очень избалованы в Персии и хотят обусловливать наше покровительство «национальностью», а мы хотим обусловливать его справедливостью и параграфами трактата. Между тем пограничная черта, проведенная в 1828 г. по мусульманским провинциям, не сделала, к сожалению, честными тех, которые остались на нашей стороне, и которые теперь наводняют Тавриз и Тегеран»[75]. С этим утверждением соглашался и Лаговский, подтверждая, что занимаются ростовщичеством и «небрежно» ведут дела «преимущественно жители Закавказского края»[76].
Во-вторых, значительное число финансовых и торговых махинаций в Иране либо были инспирированы, либо проходили при непосредственном участии высокопоставленных лиц шахского государства. Поэтому, несмотря на то, что Макинцев представлял интересы предпринимателей центральной России, а не Закавказского края, никакой помощи Торговому дому оказано не было. Тот факт, что в жертву принесли приказчика, на протяжении ряда лет исправно приносившего прибыль, понимали и сами дипломаты. Уже в 1857 г. приказчик Михаил Загуменный обследовал, так называемый, «завод» в Харзевиле. В донесении, сделанном по итогам проверки, драгоману русской миссии Адольфу Графу особо отмечалось низкое качество строительства: «из простого булыжника и на глине», а не из кирпича, наличие всего 2 ящиков слесарных инструментов и большого медного котла. По мнению М. Загуменного, все было построено из местного сырья, почему стоимость такого завода не могла «дороже обойтись Григору Арутюнову, как 500 или 600 туманов, и всякий, увидя эти постройки, не оценит их более, а непременно менее назначенной мной суммы»[77]. В 1860 г. консул в Гиляне лично отправился на обследование этого завода и подтвердил факт расхищения строительных материалов иранским подрядчиком. В рапорте консула отмечалось, «что все здания совершенно разрушились, и решительно никуда не годны»[78]. То есть Макинцев, который оказался должен 60 тыс. руб. серебром[79], а это приблизительно и есть 6 тыс. туманов, стал очередной жертвой обмана и новой внутрииранской конъюнктуры. Лаговский это косвенно подтвердил, в одном из писем отобразив истинные мотивы такой пассивности Миссии и консульств. Он писал, что удовлетворение взысканий, «падающих нередко на лица значительные по своему положению в Персии, возбуждает в персидском правительстве неудовольствие…»[80]. (Григор Арутюнов являлся подставным лицом и выполнял волю мирзы Якуб хана – влиятельного придворного и чиновника в шахской администрации).
Конечно, на судьбу предприятия и Торгового дома повлияли и объективные обстоятельства. Прежде всего, к концу 50-х гг. XIX в. в экономической политике российского государства вновь обозначились Закаспийские интересы. В письме Аничкову в декабре 1858 г. Главнокомандующий войсками на Кавказе доносил, что в правительстве активно обсуждаются проекты строительства на восточном берегу Каспийского моря 2 крепостей. Поводом для этого обсуждения стало открытие Закаспийского торгового дома[81]. Такой дом, по мнению его учредителей, должен был активизировать торговые связи российских рынков с туркменскими степями и далее с Хивой и Бухарой через Астрабад. Один из учредителей торгового товарищества барон Николай Торнау обратился в Тегеран к А. Е. Лаговскому с запросом относительно покровительства дипломатических структур и получил от того благословение. В ответном письме отмечалось, что «Закаспийскому торговому товариществу предстоит, по сему, благородная цель воскресить торговую деятельность нашу в Персии, и восстановить должное доверие…»[82].
Закаспийский край в качестве основного торгового центра был избран намеренно. Дело в том, что в правительстве шаха произошла очередная смена чиновников – первый визирь мирза Ага хан Нури был отправлен в отставку. Англофильские пристрастия, которые демонстрировал этот государственный муж в начале своей карьеры, сменились нормализацией отношений с российским кабинетом. Этому способствовало стечение обстоятельств, которым воспользовались русские дипломаты. Родной племянник Ага хана Нури – Хусейн Али Нури возглавил после разгрома основной части баббитского движения его бехаитскую ветвь под именем Баха Аллах (Блеск Божий). В августе 1852 г. уцелевшие баббиты организовали на Наср эд-Дин шаха покушение, и мать монарха прямо обвинила в этом Баха Аллаха. Посол Д. И. Долгорукий, не только предоставил духовному лидеру убежище, но и стал впоследствии активным ходатаем перед шахом о снятии обвинения. Естественно, миссия поступала не бескорыстно, и затем пользовалась благодарностью первого визиря. В частности, английские дипломаты были ограничены в праве открывать собственные консульства на севере страны. Они открывались только в тех городах, где уже существовали российские представительства, так сказать, под присмотр. Отставка расположенного к России первого министра стала серьезным ударом по планам отечественной дипломатии. В личном письме Н. А. Аничкова к Константину Ивановичу Любимову в сентябре 1858 г. с прискорбием отмечалось: «Друг то наш незабвенный Садр Азам, сделавший нам столько добра, лишился своего поста. Злодеи не дали ему даже возможности окончить наши дела… Все пропало теперь»[83].
Действительно, многие проекты расширения русско-иранских отношений оказались свернутыми. Нежелание нового кабинета управляться «кукловодами» из Санкт-Петербурга проявилось уже в требованиях шаха к организуемому Закаспийскому товариществу. В 13 пунктах отмечались крайне невыгодные условия его деятельности на иранской территории. Во-первых, его обязали выкупить у правительства все построенные Московским торговым домом амбары и склады. Во-вторых, за аренду магазинов и лавок сроком на 5 лет общество должно было внести плату авансом. В-третьих, в случае отказа от использования магазинов и складов арендная плата не возвращалась. В-четвертых, любые контракты подвергались обязательному визированию со стороны Астрабадского губернатора, который имел право свободного доступа на склады компании «для осмотра». В-пятых, общество было обязано нанимать катера (киржимы) и вьючных животных у местного населения и не иметь собственного транспорта. Особенно примечательным выглядит пункт 3, который предполагал перезаключение контракта с правительством шаха через 3 года, а не через 5 лет, за которые вносилась арендная плата[84].
Как следствие отказа от прорусского курса, шахские власти перестали финансировать работу российских мастеров, прибывших для организации производства и выделять деньги на их модернизацию. В конце 1858 г. вернулись на родину мастеровые с тегеранской бумагопрядильной фабрики[85], а специалист по чугунному литью был вынужден констатировать, что иранцы не удосужились даже правильно сложить печи, отчего во время плавки чугун спекся с кирпичом. По мнению мастера, его наняли «не устраивать печи, а…отливать чугунные вещи»[86]. Показательным, в данной связи, является случай с поставкой оборудования из России для модернизации шахского монетного двора. Представитель гилянских властей Наджар Баши в течение 10 дней блокировал разгрузку ящиков с машинами и инструментами, а затем они были брошены на энзелийском берегу, где и ржавели под открытым небом в течение 2 месяцев[87].