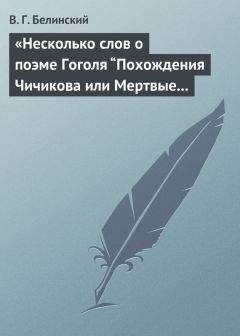Елена Анненкова - Путеводитель по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»
Мы замечаем, что в описании дома Плюшкина, не только внешнего его вида, но и внутреннего убранства, автор более детален и подробен (в перечислении вещей, предметов), чем в рассказах о других помещиках. Беспорядочное нагромождение вещей и вещиц в комнатах Плюшкина характеризует неопрятность, заброшенность хозяина, но может возникнуть вопрос, так ли уж нужно было называть все предметы, например «бюро, выложенное перламутною мозаикой», перечислять «множество всякой всячины»: «куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая…» (VI, 115). Вглядываясь в это и подобные им описания, мы замечаем, что при всей случайности соединения названных предметов они говорят нечто принципиально важное о хозяине и жизни в целом.
Какой текст хранят мелко исписанные бумажки, уже не дано узнать, но этих, ныне лежащих кучею бумажек касалась рука человека, запечатлевая душевные ли размышления, хозяйственные ли планы или то и другое, составляющее его жизнь. Забыл ли выбросить их хозяин или не захотел, сохраняя для себя следы прежней жизни? Что скрывает «старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом»? Помнит ли Плюшкин, что некогда читал, быть может, раскрывая книгу вечером, по завершении всех хозяйственных дел? «Кусочек сургучика», как и «кусочек тряпки» свидетельствуют о не истлевшей до конца, хотя и бессознательной связи Плюшкина с тем образом жизни, когда все лежало на своих местах, мухи еще не попадали в рюмку с какой-то жидкостью, перья регулярно опускались в чернильницу, зубочистка использовалась по назначению. Не более чем кусочек этой жизни остался в нынешнем плюшкинском доме.
Но как же тесна, нерасторжима оказывается связь с этим чудным миром вещей! Описание Гоголя таково, что читатель вот-вот пожалеет и сами эти вещи — так они малы, состарены, разрушены и в силу этого трогательны; так тщетно (а может быть, и не совсем тщетно) пытаются они сохранить заложенный в них прежней жизнью смысл и даже передать их новой жизни. Бродя по деревне, Плюшкин прихватывает все, что попадается ему на пути. Но воровство его специфично. Будучи уличен, он тотчас отдает то, что унес. Не означает ли это, что Плюшкин не может вынести вида брошенных или забытых вещей, он их прибирает, чтобы пристроить, дать пристанище, спасти вещь от сиротства.
Сращенность человека и вещи может быть для человека пагубной и даже гибельной — Гоголь это знал. Но размышляя о характере отношений Плюшкина с миром вещей, В. Н. Топоров нашел удивительное определение — «окликнутость вещью». Исследователь ведет речь «о том отношении к вещи, при котором ценится ее „вещная“ польза, но одновременно осознается и душевная привязанность к вещи, дающая основание думать, что с вещью может соединяться и „душевная“ польза» [57]. Камни, растения, животные принадлежат природе, они самодостаточны, у них своя судьба. Вещь создана человеком. Он «заражает» вещь «разумом». Вещь зависит от человека, несет на себе его печать. Беззащитная и бессловесная, как пишет исследователь, она отдается под покровительство человека и рассчитывает на него. «В русской литературе нет писателя, — резюмирует В. Н. Топоров, — который в такой степени ощущал бы эту окликнутость вещью, как Гоголь. Она переживалась им как нечто универсальное, постоянное, настоятельно-требовательное и была для него почти маниакальным состоянием, привязанным к пространствам России и русской песне как образу или душе этих пространств» [58].
Занимая свое место в ряду скупцов, созданных мировой литературой, Плюшкин оказывается не вполне похож на них. Богатство, изобилие вещей как таковых нужно скупцу для каких-то конкретных целей. Скупость Плюшкина не предполагает выгоду для себя. «Эта скупость, — замечает В. Н. Топоров, — похоже не подлинна: она лишь экстраполяция прежнего нормального рачительно-бережного отношения к вещи, получившего гипертрофированно-искаженную и обессмысленную форму только тогда, когда цель этой разумно-полезной первоначальной деятельности прекратила свое существование» [59]. Беспорядочно собранные в доме Плюшкина вещи — не столько хозяйственные, сколько связанные с потребностями души предметы. В одинокой старости Плюшкина они единственные могут напомнить ему о прошлом.
Тему старости Гоголь возводит на уровень серьезнейшей и сложной проблемы, и именно в шестой главе она, как и тема развития и деградации человека, представлена в полном ее объеме.
Рассказ о прошлом героя Гоголь помещает не в конец главы, где он мог бы откорректировать уже сложившееся о нем представление читателя, а в преддверии диалога с ним Чичикова, в преддверии сделки. Мы можем предположить, что автору хотелось заранее настроить читателя на определенное восприятие Плюшкина, обратить внимание на общечеловеческий (а не сугубо социальный) ракурс в изображении этого героя. Доминанты прежней жизни Плюшкина — ум, «зоркий взгляд», «опытность и познание света». До тех пор, пока хозяин «как трудолюбивый паук, бегал по всем концам своей хозяйственной паутины», «все текло живо и совершалось размеренным ходом» (VI, 118). Сравнение хозяйственного труда с паутиной может насторожить; в духовном, особенно православно-христианском контексте оно означает, что герой излишне отдан практической, материальной жизни и недостаточно думает о душе, однако избранное автором сопоставление не предполагает лишь негативного освещения Плюшкина. Занятый только хозяйственными заботами, обустраивая свой дом, человек, не сознавая того, плетет паутину, из которой трудно или даже невозможно выпутаться, но в трудолюбивом азарте, когда вокруг все так «живо» и течет «размеренным ходом», он не всегда в состоянии это осознать.
Автор проводит Плюшкина через ряд утрат, которые могут встретиться на пути любого человека. Умирает «добрая хозяйка», покидают родительский дом дети. Положим, в последнем виноват отчасти и сам Плюшкин: он не приложил никаких усилий, чтобы удержать детей или помочь им, но читатель знает, что это удается далеко не каждому отцу. Скупость предстает как неизбежная спутница старости и одиночества.
Можно сказать, что автор не спешит осудить героя, который обратился «в какую-то прореху на человечество», хотя и предъявляет ему немалый счет; во всяком случае он дотошно вглядывается в предпосылки и формы подобного обращения. Светский писатель приближается к позиции духовного автора, который готов сурово осудить недостойный, греховный образ жизни, но не отказывает в понимании и помощи самому грешнику. Автор «Мертвых душ» готов увидеть в скупости Плюшкина некую антитезу мотовству и бесшабашному разгулу, нередко встречающимся «на Руси, где все любит скорее развернуться, нежели съежиться» (VI, 120) и все же не может оправдать его. Именно с общечеловеческой точки зрения трагично то оскудение души, которое совершилось в жизни Плюшкина, и оно может случиться с каждым, если не приложит человек нравственных усилий для того, чтобы не превратиться в «прореху на человечество».
Библейские мотивы органично входят в состав шестой главы поэмы. Звучит мотив Страшного суда, осуждения сребролюбия. Но любопытно, что и упоминание о неминуемой, страшной расплате за грехи, и укор сребролюбцам вложен автором в уста Плюшкина. Это придает серьезным мотивам травестированный, пародийный характер (при этом пародия целит не в источник, а в того, кто всуе его упоминает), а вместе с тем высвечивает и в Плюшкине бессознательную потребность в пастырском слове: он словно ждет упрека, осуждения, ободрения — все вместе. Но пока пастырское слово не раздается достаточно громко, так, чтобы все его услышали, Плюшкин готов сам укорить ближних: «Такое сребролюбие! Я не знаю, как священники-то не обращают на это внимание; сказал бы какое-нибудь поучение, ведь что ни говори, а против слова-то Божия не устоишь» (VI, 123). Правда, прозвучавший в тексте духовный пафос изрядно снижается приведенной тут же мыслью Чичикова («Ну, ты, я думаю, устоишь!» — там же), однако не девальвируется окончательно.
Соседство мертвенности (в тексте дважды упоминается «деревянное лицо» Плюшкина) и неожиданно мелькающего живого чувства (знаменательна лексика: «радость», «теплый луч») пробуждает в читателе надежду, что духовное возрождение возможно, однако автор не спешит утвердить это как бесспорно возможное: «вслед за мгновенно скользнувшим» по лицу Плюшкина живым чувством лицо героя «стало еще бесчувственнее и еще пошлее» (VI, 126). Отмечавшая перекличку гоголевского текста со стихотворением Жуковского Е. А. Смирнова обратила внимание на то, что упоминание бесчувственности Плюшкина позволяет вспомнить и четвертую строфу из этого же стихотворения: