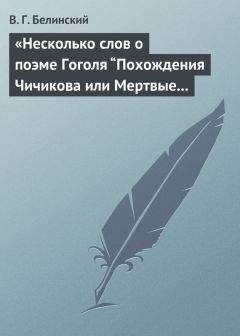Елена Анненкова - Путеводитель по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»
В этом контексте авторское пояснение закрепляет лишь отдельные смысловые оттенки описания. Особая красота сада объяснена тем, что в нем в согласии пребывают природа и искусство: «Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе» (там же). Но ведь описан в данном случае не искусно сотворенный сад-парк, в котором умело сохранена сила и первозданность природы, а сад, в котором «искусство» доживает, держится едва-едва, и остается совсем немного, чтобы «пошатнувшаяся беседка» упала, истлела. Померкнет ли, уменьшится ли оттого красота «разросшихся на свободе дерев»?
Гоголь так организует повествование, что включенное в главу описание сада вызывает разнородные ассоциации. Мы получаем представление о гоголевском понимании идеального пейзажа, «где все переплетено и построено на контрасте», и догадываемся, что «в описании сада Плюшкина проявилось понимание Гоголем категории живописного, усвоенной им у английских эстетиков XVIII в.» [54]. В описании сада Плюшкина можно найти отражение древнейших представлений о саде-рае, «который одновременно оказался и местом грехопадения». Сад Плюшкина несет в себе черты как эстетического совершенства, так и эстетической неполноты. «Можно предположить, — продолжает свои размышления современная исследовательница, — что… сад Плюшкина ассоциировался у Гоголя с „непроходимыми, заносящими далеко в сторону дорогами, которые избрало человечество“, — с дорогами, в которых был заложен ведомый не человеку, но только Богу таинственный смысл», но этот же сад «легко мог превратиться в извилистый путь… никуда не приводящий» [55]. Все это свидетельствует о том, что к шестой главе повествование набирает символический потенциал смысла и предметом осмысления автора уже совершенно явственно становятся судьбы человечества и современного человека. Понятия «ветхости», «старости», «мертвенности» универсализуются, выходят за границы буквального, бытового смысла и приобретают смысл символический.
И сам Плюшкин, и его дом, а можно сказать, и его мир кажутся более чем герои предыдущих глав тронуты мертвенностью. Шестая глава кульминационно завершает ряд так называемых помещичьих глав. Преобладание вещественного, материального над духовным здесь проступает очевиднее и тревожнее. Автор же избирает слово печальнее: «еще печальнее» на фоне сада показался дом Плюшкина. Печаль предполагает сожаление, сочувствие, во всяком случае соучастие. Печальна картина имения, в котором незаметно «никаких живых хлопот и забот дома» (VI, 114). Комична, но и печальна фигура хозяина, внешний вид которого не позволяет гостю понять, кто же перед ним, «баба или мужик». В тексте начинается принципиальное, хотя и не слишком акцентированное разведение позиций автора и героя. Они не отождествлялись и прежде, однако создавалось впечатление, что в момент приближения Чичикова к тому или иному имению взгляд автора и героя на дом, облик и поведение хозяина почти одинаков. В главе VI, глядя на непонятную, стоящую перед ним фигуру, Чичиков испытывает недоумение и нетерпение: ему хочется поскорее встретиться с хозяином и обсудить дела. Негодование, чуть ли не брезгливость готов испытать и автор. Именно ему принадлежат обобщающие слова: «И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек!» (VI, 127). Однако диапазон суждений автора о новом персонаже окажется неизмеримо шире, чем у героя.
Чичикову доступно лишь то, что видимо его взору. «Изощренный в науке выпытывания взгляд» — это взгляд автора. Чичиков нетерпеливо ждет хозяина. Автор неторопливо вырисовывает фигуру человека как такового. Стертость различий между «бабой» и «мужиком» может быть комична, в каких-то случаях объяснена материально, но, в сущности, не столь страшна. Не упуская ни малейшей детали, автор тем не менее стремится не столько к исчерпанности характеристик внешних (бытовых, социальных), сколько к постижению внутреннего человека. Поэтому и в бытовом, на первый взгляд, описании проступают символические смыслы. Чичиков вслед за Плюшкиным словно спускается в преисподнюю. Они вступают в «темные широкие сени, от которых подуло холодом». Из сеней переходят в комнату, «тоже темную», правда, «чуть-чуть озаренную светом». Во всяком случае можно видеть, что герои совершают некий переход из свободного, пусть не вполне обустроенного пространства в иное, где слишком много беспорядочных, утративших смысл вещей; пространство, лишенное разумной формы. «Кучами» лежат в нем многочисленные вещи; «огромная почерневшая картина» занимает полстены. В этом пространстве не осталось жизни — «никак бы нельзя было сказать, чтобы в комнате сей обитало живое существо» (VI, 115).
Однако пристальный взгляд автора улавливает именно на лице Плюшкина нечто живое. Это «маленькие глазки», которые «еще не потухли и бегали из-под высоко выросших бровей…». Правда, идущее вслед за тем сравнение глаз с мышами, когда те, «высунувши из темных нор остренькие морды, насторожа уши и моргая усом… высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка» (VI, 116), не позволяет читателю обольститься живостью глаз героя, но ощущение мертвенности все же откорректировано.
Ежедневные прогулки Плюшкина по деревне, во время которых он подбирает все, что попадается ему на пути, выстроены в тексте с явной опорой на фольклорную поэтику. А. Х. Гольденберг отметил аналогию Плюшкина с героем обрядовых корильных песен. Исполняемые в контексте свадебного обряда, корильные песни строятся с помощью «низкой» лексики, они включают в себя описание — нередко утрированное — заурядных бытовых предметов. «Ветхая, дырявая, с заплатами одежда постоянно фигурирует в предметном мире корильных песен… Образы прорехи и заплаты — сквозные символы гоголевской характеристики скупца Плюшкина» [56]. Реалии корильных песен легко находятся в тексте поэмы при описании хозяйства Плюшкина: «…Сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть разводи на них капусту» (VI, 119). Предметные реалии и мотивы корильных песен функционируют на двух речевых уровнях: в авторских описаниях и в речевом поведении самого героя. А. Х. Гольденберг отмечает, что если в характеристике Ноздрева эти уровни объединял принцип травестирования поэтики величальных песен, то в главе о Плюшкине мы видим более сложную организацию текста: приемы корильной поэтики, включенные в речь героя, создают устойчивый смеховой эффект («того и гляди, пойдешь на старости лет по миру», — сетует Плюшкин), в авторском же повествовании они служат целям сатирического осмеяния, укора человека. Исследователь предполагает, что и прозвище, данное Плюшкину мужиками, — «заплатанной» — восходит к образному миру народной песни:
Сваты наши скупые, да скупые. —
У них шубы худые, да худые.
Надо латок заняти, да заняти,
Сватам шубы латати…
Гоголь разрабатывает два мотива, типичных для корильных песен: нищенства и воровства. В корильной песне поется:
Как Иван-то господин
Да все по миру ходил…
Он на полку взглянул —
Блинов стопку стянул;
На полати поглядел —
Себе лапти надел.
Плюшкин, испытывающий постоянный страх перед воровством, сам постоянно тащит в дом все, что попадается ему под руку.
Но если фольклорная обрядовая песня не знает характера, индивидуальности, поэтому над героем легко смеется слушатель или читатель, то описание Плюшкина, бредущего по деревне, подбирающего любую ветошь, постоянно опасающегося, что его либо обманут, либо обворуют, вызывает двойственное чувство. Читатель видит старика, которого оставляют и разум и силы; недоверие ко всем, скупость, чувство бессилия — печальные приметы старости. Крестьяне относятся к нему, как к фольклорному персонажу, — укоряют его, хотя и не вслух. Заслужил он этот укор? Несомненно. Укор звучит, а участия к одинокой старости нет. Пожалуй, в главе о Плюшкине определеннее, чем в других, раскрывается смысл известного гоголевского выражения — «смех сквозь слезы».
Мы замечаем, что в описании дома Плюшкина, не только внешнего его вида, но и внутреннего убранства, автор более детален и подробен (в перечислении вещей, предметов), чем в рассказах о других помещиках. Беспорядочное нагромождение вещей и вещиц в комнатах Плюшкина характеризует неопрятность, заброшенность хозяина, но может возникнуть вопрос, так ли уж нужно было называть все предметы, например «бюро, выложенное перламутною мозаикой», перечислять «множество всякой всячины»: «куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая…» (VI, 115). Вглядываясь в это и подобные им описания, мы замечаем, что при всей случайности соединения названных предметов они говорят нечто принципиально важное о хозяине и жизни в целом.