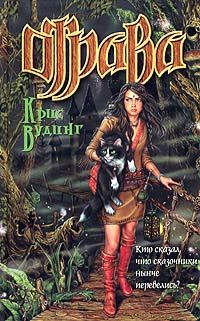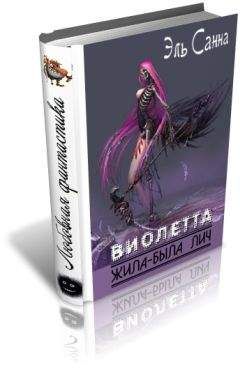Константин Курбатов - Пророк из 8-го «б», или Вчера ошибок не будет
— Вкусно? — застав меня в укромном местечке жующим, нагло интересовались они. — Ты питайся, питайся, Карпухин. Ты не стесняйся. Однако смотри и не переешь, бедненький, а то огрузнеешь, и на марше твой «урал» снова забуксует. Что ты тогда будешь делать, если он снова забуксует?
Остряки-самоучки! Они гоготали и распевали песенку:
Хочешь — стой, а хочешь — падай.
Мама, я хочу домой!
Разве это служба? Какой-то ад, а не служба. Ну почему в Ленинграде можно купить на улице пирожок, съесть его, и никто не подойдет к тебе и не станет заглядывать в рот? Почему там никто тебя не насилует, ничего тебя не заставляет делать и не тычет носом в складки на одеяле? А тут койку заправь, обмундирование погладь, подворотничок пришей, пуговицы надрай. И еще машина тебя в гараже дожидается. И чтобы она тоже сверкала. А кто казарму убирает, двор, отхожее место? Кто автомат смазывает? Кто картошку на кухне чистит? Кто в карауле стоит? Кто дневалит? Кто вскакивает ночью по тревоге? Кто задыхается на марше в противогазе? Разве такое под силу одному человеку?
Но мне не только попросту не хватало сил, мне еще и элементарно не везло. На марше сбилась в сапоге портянка, и я натер ногу. Во время учения мой «урал-375» забуксовал на кромке болота и отстал от подразделения. Разве я виноват, что «урал» засел задними колесами в трясину?
За «уралом» прислали тягач. А старшина Фотеев сказал мне после разбора учения:
— Запомните, рядовой Карпухин: в жизни везет лишь сильным, а слабых приходится вывозить.
Он был тупым и до жестокости безжалостным, этот ходячий устав старшина Фотеев. Выше всего на свете он ставил приказ. И никаких причин, которые бы помешали выполнить приказ, для него не существовало. Он даже слушать не желал ни о каких причинах.
— Умри, но сделай, — говорил Фотеев, до которого не доходило, что если ты умрешь, то уже ничего не сделаешь.
А мне порой действительно хотелось умереть. По самому настоящему. Например, когда я стер на марше ногу. Я уже больше не мог. Я сорвал с лица липкую от пота противогазную маску и в изнеможении упал на пожухлую, прихваченную морозцем траву.
— Встать, — тихо сказал надо мной старшина. — Надеть противогаз. Вперед.
— Не могу я, — чувствуя, что действительно вот-вот помру, всхлипнул я. — Ну, не могу. Честное слово. Конец. Нога.
— Надеть противогаз. Вперед! — выбросил, как полководец, руку старшина. — Бегом.
И он еще считал себя человеком, наш старшина! Чего в нем было человеческого?
Не помню уж, как я сумел снова натянуть на лицо резиновую маску и подняться. Я поднялся и, прихрамывая, побежал. В каком-то бреду. А под маской у меня вместе с потом текли по лицу слезы.
Нет, какая все же изумительная жизнь была у меня до армии! Я вспоминал ее каждый день, каждую минуточку. Денег я, правда, зарабатывал не так уж много, даже вместе с халтурой. Но мама никогда не брала у меня ни копейки. И я купил себе портативный магнитофон на транзисторах, сшил в ателье выходной костюм и даже приобрел в комиссионном два старинных бронзовых подсвечника. Сорок рубликов отдал за пару.
— Очень красивые, моя ласточка, — похвалила мама подсвечники. — Очень. У тебя хороший вкус.
Моя ласточка! В письмах мама тоже все время называла меня ласточкой. А я читал и каждый раз чуть не ревел. Мама присылала мне прямо в конверте вместе с письмом то три рубля, то пять. «На папиросы, — писала она. — И погулять в увольнении».
Но трешку, естественно, можно тихонечко вынуть из письма, и никто не заметит. С посылкой же посложнее. Ее в карман не спрячешь. Куда с ней деваться? Другим солдатам, правда, тоже присылали из дому посылки. Но они, кретины, вываливали содержимое посылок на стол и кричали:
— Навались, братва!
И через пять минут от посылок оставались рожки да ножки. Родители из последнего выкраивают, себе отказывают, а их детки швыряются. Чужим добром, ясное дело, легко швыряться. Только родителей уважать нужно, слушаться их. Мама мне в каждом письме напоминала: «Это я посылаю тебе, а не на весь полк. Я знаю, какой ты добрый. Ты готов раздать все, что у тебя есть. Угостить ты, конечно, товарищей можешь. Но помни, что мне тоже не легко справлять эти посылки. С неба они мне не валятся. А твой папочка ты сам знаешь какой».
И тогда, десять лет назад, были такие письма, и теперь. Но тогда я совершил непростительную промашку: угостил Ролика с Суреном. И с этого все началось. Человек так устроен, что ему нельзя давать немножко. Дай ему немного, ему сразу захочется больше. Дай больше, захочется еще больше. Поэтому лучше вообще ничего не давать. Чтобы зря не дразнить. Но я тогда не знал этого и крепенько влип. Ролик каждый вечер издевательски бренчал на гитаре:
Телеграмма уж готова.
Ни одной в ней запятой.
В ней всего четыре слова:
«Мама я хочу домой!»
На этот раз я делал умнее. Я съедал мамины гостинцы по ночам. Спать, конечно, хотелось тоже. Но я приспособился. Я «добирал» на политинформациях, на занятиях и в часы ухода за материальной частью. Чего за ней так уж ухаживать, за материальной частью? «Урал» почти новенький. Протер его чуток ветошью — и загорай в кабине. Лежаночка в кабине что надо — мягкая, на пружинах. Захлопнул дверцу, свернулся калачиком — и миль-пардон.
А ночью, когда все спят, можно полакомиться. И никто тебе не заглянет ночью в рот. Потому что ночь — это единственное время, когда солдат принадлежит самому себе.
Я макал печенье в банку с вареньем и сосал. Банка стояла на груди под одеялом. Печенье набухало и расплывалось во рту сладкой кашицей. Было тепло, уютно и вкусно. Словно дома у мамы. У родной любимой мамочки, которая сразу угадывала, когда мне худо, и всегда вставала на мою защиту. Как это, оказывается, важно, чтобы в тяжелую минуту кто-то вставал на твою защиту! В армии никто не защитит тебя, не пожалеет. В армии служат одни такие сухари, как старшина Фотеев, у которого вместо сердца устав внутренней службы.
Что вдруг случилось, я сообразил не сразу. То ли я задремал с печениной во рту, то ли унесся мечтами слишком далеко от грубой казармы. Никак в первое мгновение не мог разобрать, что к чему.
— Тревога! — рявкнул над самым моим ухом Сурен Саакян. — Боевая тревога!
Все-таки старшина Фотеев сумел сделать из меня солдата. Когда солдату дают команду, он не размышляет, он мгновенно выполняет ее. Крик дневального рывком сдернул меня с койки. И банка с вишневым вареньем опрокинулась на матрац. По простыне расплылось липкое бордовое пятно.
— Быстрее! Быстрее! — поторапливал солдат дневальный.
Застегиваясь на ходу, бойцы хватали из пирамиды автоматы и выскакивали на улицу. Я суматошно прикрыл пятно одеялом и тоже побежал вслед за всеми из казармы.
С черного неба падал редкий сухой снежок, скрипел под тяжелыми кирзовыми сапогами. Старшина Фотеев взмахнул рукой:
— По машинам!
Темными прямоугольниками распахивались ворота гаражей. Гудели стартеры. Взрывались на больших оборотах моторы и дизеля, чадили угарным дымом выхлопов. Из ворот уже одна за другой выкатывались машины. А мой «урал» не заводился. Я в отчаянье жал на стартер, дергал подсос, но мотор словно умер.
В желтом кругу света под фонарем стоял с секундомером в руке старшина Фотеев. Когда в гараже осталась одна моя машина, он подошел к дверце, щелкнул секундомером, сунул его в карман шинели и тихо сказал:
— Выходит, воевать с противником в гараже под крышей будем, рядовой Карпухин?
— Так не заводится же, товарищ старшина, — выдохнул я. — Это все из-за младшего сержанта Свиридова, наверное. Бензин он мне, наверное, не тот подсунул.
— Ясно, теперь из-за Свиридова, — поиграл желваками старшина. — А третьего дня вы говорили из-за кого? Умри, но вверенная тебе боевая машина должна завестись в любую минуту дня и ночи. Когда вы уже усвоите это?
— Да я усвоил, — сказал я. — Но что поделаешь, если…
Однако старшина любил говорить лишь сам. Других он слушать не любил. Культуры у него не было ни на грош. Не дослушав, что я хочу ему сказать, он отошел.
Во дворе уже гремела команда «отбой». Машины поползли обратно в гаражи. Выскочив из кабины, я бросился через двор и первым оказался в казарме. Сунул в пирамиду автомат, кинулся к своей койке. Пустую банку из-под варенья спрятал в тумбочку. И горестно согнулся на табуретке. Как теперь спать дальше в луже варенья? И вообще что дальше?
Солдаты с гомоном и шутками скидывали гимнастерки, ныряли под одеяла. А я сидел. И тупо смотрел в пол.
— Ложитесь, Карпухин, — появился передо мной старшина Фотеев. — Утром разберемся. Приятно уже то, что первый раз вижу вас таким убитым. Значит, наконец-то что-то поняли. Ложитесь. Завтра перед обедом проверю вашу машину. Если окажется в полном порядке, обещаю ни о чем не докладывать капитану. Ложитесь.