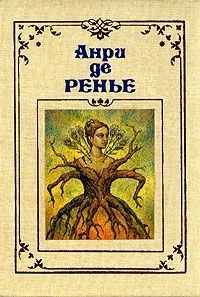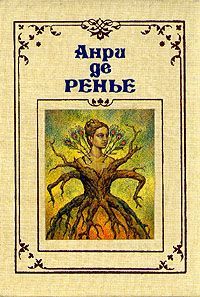Максимилиан Волошин - Анри де Ренье

Обзор книги Максимилиан Волошин - Анри де Ренье
Максимилиан Волошин
Анри де Ренье
I
Анри-Франсуа-Жозеф де Ренье родился 28 декабря 1864 года в Гонфлере, старинном и живописном городке, расположенном амфитеатром на холмах около устьев Сены.
В настоящее время ему сорок пять лет. Он в полном расцвете своего творчества. На вид он моложе своих лет. Есть что-то усталое и юношеское в его высокой и худощавой фигуре. Его матово-бледное лицо, продолговато-овальное, с высоким, рано обнажившимся лбом, висячим тонким усом и сильным подбородком, по-девически краснеет при сильном впечатлении. У него бледные голубовато-серые глаза. Монокль придает его лицу строгость и некоторую торжественность.[1]
Во всех его движениях, в костюме, в фигуре есть грустная элегантность цветка, отяжелевшего в расцвете и склонившегося на вялом стебле. Задумчивая гармония, молчаливость и безукоризненная светскость отличают его среди говорливой толпы парижских вернисажей и первых представлений.
Его негромкий, слегка певучий, но гибкий и богатый оттенками голос говорит о замкнутых на дне души залах, о стыдливости духа и о многих непроизнесенных, затаенных навеки словах.
Такие слова придают поэзии сдержанную силу и гармонию.
Самый совершенный и пластический из поэтов Парнаса – Хозе-Мария Эредиа – выдал своих дочерей за двух поэтов: старшую за Пьера Луиса, младшую – за Анри де Ренье.[2]
Как стареющий Лир, он разделил свое царство в области поэзии между своими зятьями.
Если бы средневековый хронограф рассказывал об этом событии, то он прибавил бы, конечно, что одну из них звали «La Grece antique» [ «Античная Греция» – Здесь и далее, кроме особо оговоренных перевод с французского], а другую – «La belle France».[Прекрасная Франция][3] Впрочем, быть может, он дал бы им иное символическое имя и одну назвал бы «Стилем», а другую «Поэзией».
В этом бы он совпал с Морисом Баррэсом, который при вступлении своем в академию, заканчивая похвальное слово в честь Эредиа, сказал, намекая на младшую дочь Эредиа, ставшую женою Анри де Ренье:
«Хозе-Мария Эредиа оставил нам бессмертные произведения и целую семью поэтов, среди которой в чертах некоей юной смертной каждый мыслит видеть лик самой Поэзии».[4]
Нет сомнения, что если из поэтического наследия Эредиа проникновение в стиль и дух античного мира досталось создателю «Песен Билитис», то сама крылатая победа поэзии, осенившая такою аполлоническою четкостью сонеты Эредиа, посетила дом Анри де Ренье и избрала именно его среди современных поэтов Франции.
На долю Анри де Ренье выпала счастливая и завидная доля в искусстве: быть собирателем плодов, быть осуществителем упорных исканий, которым были отданы силы нескольких поколений французских поэтов. В нем рафаэлевская, в нем пушкинская прозрачность и легкость.
С законным правом он мог бы применить к себе стих Бальмонта: «Предо мною другие поэты – предтечи».[5]
Как отражение в выгнутом зеркале, в стихе его соединились все завоевания, которые французская поэзия сделала за вторую половину XIX века. Парнасцы, Маллармэ, символисты приготовили ему путь. Сам он не искал новых путей. Он стал поэтом-завершителем.
Среди символистов он кажется парнасцем. Но строгий его стих пронизан всеми отливами чувств и утончениями мысли, доступными символистам.
Мраморная статуя парнасского стиха ожила в его руках. Мрамор стал трепетной теплой плотью.
Маллармэ замыкал свои идеи в алхимические реторты, магические кристаллы и алгебраические формулы. Ренье разбил их и сделал из рассыпавшихся драгоценных камней чувственные и сказочные украшения, подобные тем, которыми украшал наготу своей Саломеи Гюстав Моро.
Свободному стиху символистов он придал неторопливую прозрачность, а новым символам – четкость и осязаемость.
С Маллармэ Анри де Репье связан тесными узами дружбы и преемственности. Он был постоянным посетителем вторников маленькой гостиной на Rue de Rome, где создалась и воспиталась школа поэтов девяностых годов. Там не бывало бесед – туда приходили слушать учителя. Лишь изредка, во время нечастых посещений Вилье де Лиль-Адана или Уистлера, слово переходило к ним. Обычно говорил один Маллармэ, стоя у камина с неизменной маленькой глиняной трубкой в руке. Ренье в этих случаях играл роль предводителя хора. Он сидел всегда на одном и том же месте – на диване по правую руку учителя, и когда речь Маллармэ иссякала, он подавал ему реплику: на угасающий жертвенник бросал несколько кусков сандалового дерева, и огонь пылал снова. Первое десятилетие его поэтического творчества прошло так у тайного родника поэтической мудрости, напоившего стольких поэтов. Это были отношения истинного ученичества. Ренье, уже слагавший «Poemes anciens et romanesques» [Стихотворения в античном и рыцарском духе], краснел от волнения, как мальчик, после похвалы учителя.
II
В первом сборнике своих стихов «Les Lendemains» [Грядущие дни] (1885) Анри де-Ренъе определяет цель своей поэзии как желание воссоздать, обессмертить в себе самом и вне себя убегающие мгновения. Воспоминания! но они не воскреснут под его руками такими, как были. Воспоминание украшает, очищает, преувеличивает, обобщает прошлое[6]
Я мечтал, что эти стихи будут подобны тем цветам,
Которые рука искусного мастера обвивает
Вокруг золотых ваз, идеально выгнутых.[7]
В этот период влияние Маллармэ чувствуется особенно в выборе символов и форм. Все любимые образы юношеской поэзии Ренье можно вывести из этих слов Иродиады Маллармэ:
… О зеркало, холодная вода!
Кристалл уныния, застывший в льдистой раме.
О, сколько раз в отчаяньи, часами,
Усталая от снов и чая грез былых,
Опавших, как листы, в провалы вод твоих,
Сквозила из тебя я тенью одинокой.
Но горе! В сумерки, в воде твоей глубокой
Постигла я тщету своей нагой мечты.[8]
Двойственность зеркал, темные воды бассейнов, листы, опадающие на поверхность вод, усталость от снов, сумерки над лесными водоемами, «тщета нагой мечты» – эти образы повторяются и текут в юношеской поэзии Ренье.
«Я смотрел, как в воду бассейна падали листья один за другим. Не было ли ошибкой, что в моей жизни я имел занятие иное, чем этот грустный счет часов, лист за листом, над грустными и чуткими водами. Все чаще падают листья. По два сразу. Слабый ветер, поднявшись, осторожно качает – прежде чем уронить – их, усталые, напрасные. Те, что падают в бассейн, сперва плавают по поверхности, потом набухают, тяжелеют и тонут наполовину. Вчерашние погрузились уже, другие еще бродят по поверхности. Сквозь прозрачность холодной воды, ясной до самого дна, исчервленного бронзой, видны целые кучи их – потонувших… Лампа горит в углу большой залы, и я стою, лицом прижавшись к окну. Я уже не вижу, как падают листья, но чувствую, как внутри меня самого что-то обрывается и медленно падает. Мне кажется, что в молчании я слышу падение моих мыслей. Они падают с очень большой высоты, одна за другой, медленно осыпаясь, и я принимаю их всем прошлым, что живет во мне. Мертвенное и легкое их ниспадение не тяжелит отшедшими порывами жизни. Гордость осыпается, лепестки славы облетают».[9] (Manuscrit trouve dans une armoire) [Рукопись, найденная в шкафу].
Все юношеские поэмы Ренье отличаются этой вечерней меланхолией усталой и безнадежной.
Нет у меня ничего,
Кроме трех золотых листьев и посоха
Из ясеня,
Да немного земли на подошвах ног,
Да немного вечера в моих волосах,
Да бликов моря в зрачках…
Потому что я долго шел по дорогам
Лесным и прибрежным,
И срезал ветвь ясеня,
И у спящей осени взял мимоходом
Три золотых листа…
Прими их. Они желты и нежны
И пронизаны
Алыми жилками.
В них запах славы и смерти.
Они трепетали под темным ветром судьбы.
Подержи их немного в своих нежных руках:
Они так легки, и помяни
Того, кто постучался в твою дверь вечером,
Того, кто сидел молча,
Того, кто уходя унес
Свой черный посох
И оставил тебе эти золотые листья
Цвета смерти и солнца…
Разожми руку, прикрой за собою дверь,
И пусть ветер подхватит их
И унесет…[10]
Все проходит, и в пожелтевших уборах пышной осени поэт чует «запах Славы и Смерти». И ту, которую он любит, он может попросить только о том, чтобы она подержала в руках «три золотых листа цвета Смерти и Солнца» и отпустила их по воле ветра.
Эта грусть характерна для юношеской поэзии Анри де Ренье. В эти годы он видел грустную девушку в барке, на темной реке, в вечерних сумерках. Он ее звал призывным и сладким именем Эвридики. Какие-то древние печали жили в глубине ее снов. Она сидела в лодке и плакала. А напротив сидел павлин, своим ослепительным хвостом наполняя всю ладью. Незапамятная грусть темнила ее глаза, и она говорила голосом древним и истинным, голосом столь тихим, точно он доносился с другого берега реки, с другого берега Судьбы.