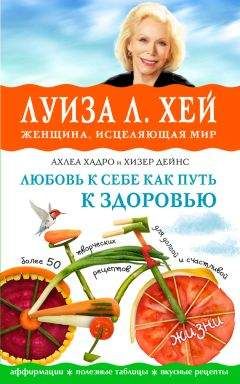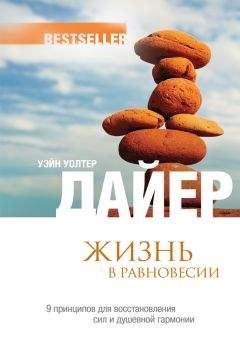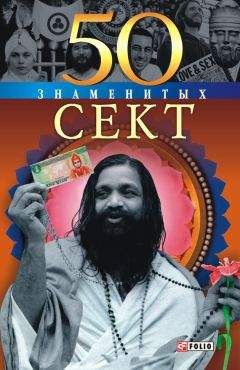Владислав Крапивин - Бабушкин внук и его братья
Однако утром опять было солнечно и тепло. Даже лучше, чем вчера. Ветер прогнал запах дыма, а дождь, видимо, пригасил торфяной пожар.
Родители ушли, когда я еще спал. Не стали будить. Когда поднялся, бабушка сказала:
– Спишь до десяти. Совесть-то есть?
Я сказал, что нету.
– Зато есть вот что! – И наконец отдал ей акварель со старым домом.
Ну, бабушка засияла! Даже поцеловала обожженную рамку.
– Я ее, бедную, сохраню на память. А картинку вставлю в новую. Такую же рамку, конечно, уже не найти, ну да ладно, главное, что сама акварель цела… Ивушка – ну до чего же славный мальчик! Умница!
– А я? Кто догадался туда поехать?
– И ты… Ешь яичницу и садись за уроки.
– Я же вчера был только на литературе.
– Ее и учи.
– А по ней ничего не задали.
– Тебе всегда «ничего не задали»… Тогда чисти штаны, которые вчера извозил. Потом пойдешь в «Овощи-фрукты» за капустой.
– Если будешь меня мучить, не отдам еще одну вещь.
– Это какую же?
– А ты забыла!
– Выкладывай!
Я достал из кармана безрукавки железный гребешок.
– Сперва просила, а потом не вспомнила…
– А! Давай, давай! Пригодится.
– Знаю, – хихикнул я.
– Что ты знаешь?
– Что пригодится.
– Ну-ка, марш в магазин!
Гребешок и правда пригодился.
Когда я пришел из школы и бесшумно отпер дверь, бабушка это не услышала. Я снял кроссовки и на цыпочках подошел к ее комнате.
Бабушка сидела на кровати, перед табуретом. На табурете стояло блюдце с молоком и хлебными крошками. Бабушка гладила гребешком ладонь, улыбалась и что-то шептала.
Я кашлянул у приоткрытой двери. Бабушка быстро воткнула гребешок в волосы. Взялась было за блюдце, но поняла: прятать поздно. Я был уже в комнате.
– Стучать надо, молодой человек.
– Колдуешь, да?
– Что за глупости!.. То есть не ваше дело, сударь.
– Квасю надеешься приманить, чтобы пришел на новую квартиру. Ну и правильно. Он теперь, небось, бездомный-беспризорный…
– Напрасно ты иронизируешь.
– Ничуть не ир-рор… тьфу… низирую. С домовым всякое жилье уютнее.
– Квасилий не домовой! Он… просто Квася, вот и все. Мой приятель.
– Все равно из породы домовых. А кто еще-то?.. Ну ладно, ладно, молчу.
– Надеюсь, ты не станешь откровенничать с родителями о моих старческих причудах?
– Я, по-твоему, кто?! И никакая ты не старческая. Ты это… дама средних лет.
– Данке шен.
– Биттэ зэр.
– А как дела в школе? Надеюсь, сегодня никаких историй не было?
– Была…
– Господи, что еще?
– Ба-а… Я с ним помирился.
В школу я в этот день пришел к самому звонку. Почти никто не вспомнил о вчерашнем. Вальдштейн на меня не смотрел, остальные ребята смотрели и разговаривали нормально. А Клавдия Борисовна решила, видно, что дома мне устроили «семейную профилактику» и можно на этом дело закрыть.
Только Настя за меня тревожилась. Едва начался первый урок, немецкий, она толкнула мою ногу коленкой. Коленка была холодная, гладкая и такая… у меня все внутри отозвалось тайным замиранием. И мелькнуло в голове, что ради такого случайного касания можно было бы ампутировать самые дорогие штаны, а не только этот обгорелый утиль. Но если бы эту мысль угадал хоть кто-то, я сгорел бы на месте, как канистра с бензином. Я даже перед собой-то молча застонал от навалившейся стыдливости. Но под ней, под стыдливостью этой, шевелилось что-то вроде теплой пушистой гусеницы. Пусть толкнет еще разок, а?
И она толкнула еще разок, покрепче.
– Ты уснул, что ли?
– А? Нет… Что?
– Я спросила: дома сильно ругали?
– Меня? Нисколько!
– Тогда хорошо… Я за тебя переживала.
– Ну и зря… – И я начал с нашей третьей парты старательно подсказывать несчастному Шурику Лапину, которого вызвали к доске и заставили делать перевод незнакомого текста.
– Руих, биттэ, майн либер Иволгин, – попросила добродушная «немка».
– Энтшульдиген, биттэ, Нина Петровна.
– То-то же, – сказала она уже по-русски. А я опять «отрубился» и стал тайно ждать: не толкнет ли меня Настя снова. И, по правде говоря, ждал на всех уроках, хотя порой меня настигало понимание, что лучше бы провалиться куда подальше… А на последнем уроке дошел до сверхнахальства – толкнул ее сам.
– Ты чего?
– Нась… я… узнать хотел. Я забыл, у тебя какого октября день рождения? Пятнадцатого или шестнадцатого?
– Пятнадцатого.
– Это хорошо.
– Почему?
– Я подумал: вдруг в гости пригласишь?.. Это шутка…
– А я правда приглашу. Без шуток.
– Ну, тем более хорошо. А то шестнадцатого мне надо на другой день рождения.
– К кому?
– Тоже… к одной девчонке.
Я думал, она скажет «у, какой ты» и толкнет меня коленкой снова. Но Настя притихла и стала смотреть в окно.
После урока мы вышли из школы вместе. Один квартал нам было по дороге. Настя сперва молчала, потом будто вспомнила:
– Да, насчет дня рождения! Шестнадцатого октября ведь будет понедельник. Та девочка… она, наверно, решит праздновать в выходной, как и я…
– Да я не на праздник. Зайду, отдам подарок – и в школу.
Настя сказала ужасно безразличным тоном:
– А она кто? Наверно, из твоей бывшей гимназии?
– М-м… да! Из нее.
– Наверно, из твоего бывшего класса?
– Да из первого класса она! Ей семь лет стукнет! Это сестренка моего товарища, в том дворе, где мы раньше жили. А ты что подумала?
– А я вот нисколечко ничего не подумала. Просто сказала про понедельник. А ты думаешь, что я подумала?
– Я думал, что ты подумала, будто я думаю, что… тьфу!
Мы засмеялись.
– Ты меня под партой так ногой стукнул, что до сих пор в суставе гудит…
– Я?! Тебя?! Когда?!
– Даже и внимания не обратил. А у меня синяк. Вот, смотри…
Я с готовностью посмотрел. Даже присел.
– Нету никакого синяка. Даже пятнышка нету.
– Недавно еще был.
– Ну, я нечаянно…
– Ладно уж…
Скоро мы разошлись. Она в Комаровский переулок, я на свою улицу Урицкого.
Урицкий был, говорят, какой-то деятель ЧК, помощник Ленина, и его застрелили. Нынче в городе многие большевистские названия переименовали, а про это, наверно, забыли. Может, потому что на окраине. Кстати, говорили здесь не «улица Урицкого», а просто «Урицкая».
Ну вот, шагал я, улыбчивый такой, на свою Урицкую, и вдруг сзади:
– Иволгин! – нерешительно так.
Я оглянулся. Сзади шел Вальдштейн.
Я остановился. Он тоже остановился. Свою потрепанную спортивную сумку он держал в руке на длинном ремне и качал ее, как маятник. И смотрел на нее.
– Ну, что? – сказал я.
Он быстро взглянул на меня и опять – на сумку.
– А мы… с тобой, оказывается, в одном доме живем…
– Да? – сказал я без всякого выражения.
– Да… Только в разных концах. Ты в восьмом подъезде, а я в первом. На четвертом этаже…
Я пожал плечами:
– Ну, что ж… – Я не хотел его отшивать, но и что сказать, не знал. Постоял секунду и пошел. Вальдштейн догнал меня, зашагал сбоку и чуточку позади.
– Иволгин…
– Что?
– Ты очень на меня злишься, да? За то дело…
– Вот еще! – сказал я искренне. – Чего мне злиться? Тебе же попало, а не мне!
– Ну… у тебя ведь тоже были неприятности.
– С какой стати? Ничего у меня не было!
– С уроков прогнали…
– Вот беда! Погулял, в гости сходил… Одно удовольствие.
– Тогда хорошо, – вполголоса отозвался Вальдштейн. С полминуты мы молчали. Потом:
– Ты не думай, что это я Клавдии нажаловался. Я дома сказал, что просто ударился, а мать не поверила, в школу пошла. А там в учительской Клавдия и Андреич. Он-то им все и выложил…
Я придержал шаги, чтобы Вальдштейн оказался совсем рядом. Он шел и пинал свою сумку тощей поцарапанной ногой. Один раз запнулся, чуть не полетел носом. Оглянулся испуганно. Я чуть не наткнулся на него. Мы оказались лицом к лицу. И тогда я спросил:
– Послушай, Вальдштейн. А если бы я поверил, что у тебя дружки-рэкетиры, и принес бы деньги? Ты бы взял?
Он ответил тихо, но сразу. И мне показалось – без хитрости:
– Да ты что… Это же я так, просто… Подумал: может, есть кто-то еще…
– Что «еще»? – спросил я довольно беспощадно.
Он пнул сумку изо всех сил и признался отчаянным полушепотом:
– Еще больше… слабовольный, чем я… Тебе же Пшеницына, наверно, описала, как меня тут… как ко мне прискребались…
– Ничего она не говорила, – соврал я. – Мы про тебя вообще не разговаривали.
Он, по-моему, не поверил.
Тогда я сказал:
– Думаешь, я не понимаю, какая это жизнь, когда тебя изводят? Думаешь, я… такой уж крутой, что ли?
Он помолчал, и в молчании мне почудилась благодарность. Потом спросил:
– А трудно учиться в гимназии?