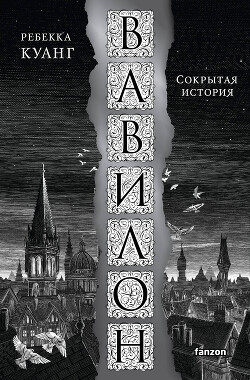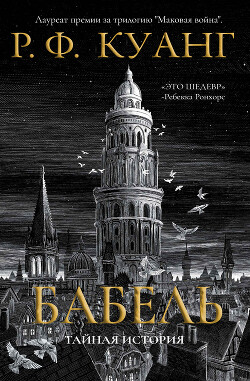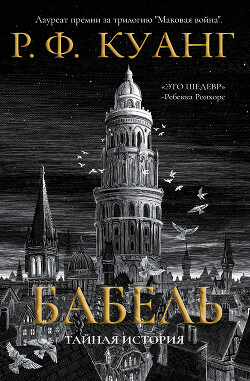Йеллоуфейс - Куанг Ребекка
«Да легко», — тихо шепчет мне вкрадчивый голосок.
Мы вместе делали пробежку. На нас как раз подходящая одежда, убедить будет несложно. Ступеньки были обледенелыми, шел дождь, а Кэндис не смотрела под ноги. Пока сюда едет «скорая», у меня определенно будет время спрятать камеры. Можно зашвырнуть весь этот рюкзак в Потомак, но, чего доброго, найдут. Лучше спрятать его недалеко от Джорджтауна, а потом забрать. Если Кэндис не заговорит, то кто озвучит подозрения?
Да, это пипец. Но расследование убийства я как-нибудь переживу. А вот того, что учудит со мной Кэндис, если уйдет живой, я не переживу точно.
Метания Кэндис становятся слабее. Силы у нее уходят. У меня тоже, но я крупней, тяжелее; мне нужно единственно ее измотать. Я прижимаю ее запястья к земле, придавливаю коленом грудь. Убивать ее мне не хочется. Если удастся просто удержать в неподвижности, а затем снять рюкзак, а затем обыскать ее на предмет всяких скрытых гаджетов — это будет идеальный вариант; в таком случае мы сможем разойтись целыми и невредимыми. Но если нет; если дело дойдет до…
Кэндис с визгом плюет мне в лицо.
— Отвали!
Я не двигаюсь с места.
— Отдай это, — шумно выдыхаю я. — Просто отдай, и все. И тогда я…
— Ты гребаная сука!
Крутнувшись, она кусает меня за запястье. Боль пронзает руку. Я отшатываюсь, потрясенная. Она пустила кровь — о черт, она у нее на зубах, на всей моей руке. Кэндис дергается еще раз. Мои колени соскальзывают с ее груди. Она вырывается, сжимается пружиной и бьет мне ногой в живот.
Нога лупит с силой гораздо большей, чем я себе представляла в таком компактном теле. Это не столько больно, сколько оглушительно — удар вышибает из моих легких остаток воздуха. Я отшатываюсь, размахивая руками для равновесия, но земли, которая, мне казалось, у меня за спиной, там нет.
Один пустой воздух.
24
Врачи отпускают меня из больницы через четыре дня, после того как мои ключица и лодыжка благополучно вправлены и я показываю, что могу залезать и вылезать из машины без посторонней помощи. Операция мне вроде бы не понадобится, но в больнице настаивают, чтобы я через две недели показалась, удостовериться, что мое сотрясение прошло само по себе. Все это дело даже со страховкой обходится мне в тысячи долларов — хотя, наверное, надо сказать спасибо, что я еще легко отделалась.
Когда я очнулась, никакой полиции возле моей кровати не дежурило. Не было ни следователей, ни журналистов. Мне сказали, что я поскользнулась во время пробежки. Нашел меня и вызвал «скорую» анонимный добрый самаритянин, воспользовавшись для этого моим телефоном, но когда она приехала к месту, его там уже не было.
Кэндис разыграла все безупречно. Любое обвинение, которое я могу выдвинуть, окажется совершенно беспочвенным. Со стороны мы с ней почти незнакомы. Последний обмен по имэйлу был у нас бог весть когда. Ее номера у меня нет даже в телефоне. Нет никаких оснований подозревать интриги — какой здесь может быть мотив? Уже несколько дней бушует непогода; дождь смоет все отпечатки, все доказательства работы ее камер. Даже если я смогу каким-то образом доказать, что Кэндис в ту ночь была на лестнице, все это превратится в пустые дебаты, которые к тому же обойдутся нам обеим в нехилые судебные издержки. Более того, на Кэндис ведь тоже наверняка остались синяки, которые она, без сомнения, уже приукрасила и задокументировала. Нет никакой гарантии, что иск я выиграю.
Нет. Что бы ни происходило сейчас, это произойдет в сфере популярного повествования.
Сидя в «убере» на пути домой, я ищу имя Кэндис — что, собственно, делаю каждые несколько часов с того момента, как очнулась. Видимо, это всего лишь вопрос времени. Хочется увидеть эту новость в тот самый момент, как она появится. На сей раз заголовок, которого я жду, стоит в самом топе поисковика. Вот он, в свежайшем — еще пар идет — интервью New York Times: «ПРИЗНАНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ: БЫВШАЯ РЕДАКТОР КЭНДИС ЛИ ОБ АФИНЕ ЛЮ И ДЖУНИПЕР СОНГ-ХЭЙВОРД».
Впечатляет, реально впечатляет. Оставляя в стороне даже то, что Кэндис повысила себя в должности с помощницы до редактора, тиснуть статью в New York Times всего за четыре дня — это большое достижение, особенно если речь о какой-то там литературной грызне, канувшей из новостного пространства уже несколько месяцев назад. Даже Адель Спаркс-Сато никогда не удавалось публиковать свою, с позволения сказать, «аналитику» в NYT; она никогда не поднималась выше Vox, Slate или, прости господи, Reductress.
Однако Кэндис располагала тем, чего не было ни у кого другого. У нее были записи. В последнем абзаце, в самом низу интервью, упоминается, что сейчас Кэндис работает над мемуарами обо всем этом деле. Ну конечно, ясен пень. К работе она еще только приступила, но уже сообщается, что «несколько издательств очень заинтересованы» в приобретении ее рукописи. В списке издателей значится и Eden, который уже вышел на агента Кэндис. В последних строках цитата от самой Даниэлы: «Конечно же, мы бы хотели посотрудничать с мисс Ли. Это будет идеальным способом загладить провинность, которую мы допустили в этой трагедии, о чем глубоко сожалеем».
Что ж, на этом мне и конец.
Я превозмогаю одну неделю, затем другую на обезболивающем и снотворном. Сознание для меня бремя. Просыпаюсь я только затем, чтобы поесть. Вкуса еды во рту не чувствуется. Питаюсь я только сэндвичами с арахисовым маслом, а затем и масло перестает заботить. Мои волосы растрепаны и засалены, но сама мысль о том, чтобы их вымыть, для меня несносна. Я принуждаю себя делать элементарные вещи для выживания, но нет никаких целей, никаких стремлений или ориентиров, кроме того, чтобы шагать вниз по унылой прогрессии линейного времени. Видимо, это и есть то, что Агамбен [75] называл «голой жизнью».
Весть о происшествии со мной, должно быть, разошлась по Сети. Мне присылает эсэмэску Марни: «Хотела проверить, как твои дела. Слышала о несчастном случае — ты в порядке?» Я расцениваю это как попытку успокоить совесть на случай, если я умру. СМС я оставляю без ответа.
За этим исключением, руку не протягивает никто. Мама и Рори бросили бы все и мгновенно примчались к моей постели, если бы я рассказала им, что произошло, но я скорее воткну себе в оба глаза отвертки, чем ударюсь в объяснения. Однажды вечером у меня начинает пиликать телефон, но это всего лишь курьер с туалетной бумагой и салфетками. А проводив его, я рыдаю в подушку от безысходной жалости к себе.
Когда обезболивающее перестает действовать и мне приходится одолевать муку размышлений, я коротаю часы за тупым листанием Twitter. Как обычно, хронология пестрит авторами, вопиющими о внимании. Сделка на книгу. Демонстрация обложки. Опять демонстрация обложки. Рецензия со звездочками. Розыгрыш призов от Goodreads. Просьба на предзаказы. Обложка любовного романа с двумя белыми героями, настолько похожая на обложку еще одного любовного романа, что «твиттераты» не знают, поносить ли им авторов, издателей, арт-команды или белое превосходство в целом. От этого разит отчаянием, но я не могу отвести взгляд. Это все, что связывает меня с единственным миром, частицей которого мне хоть как-то интересно быть.
Одиночество донимало меня не так чтобы сильно — я привыкла быть одна; я всегда была одна, в том числе когда писала. Только сейчас я писать не могу — зная, что у меня, вероятно, больше нет и агента. А что такое автор без аудитории?
Раньше я, бывало, задавалась вопросом: а что чувствуют авторы, которым зарубили публикации? Я имею в виду отказ по объективным причинам: сексуальные домогательства, расовое оскорбление, всякое такое — после полной, так сказать, заморозки. Некоторые пытались просочиться обратно, через какие-нибудь убогие попытки самиздата или странные культовые семинары. Но большинство просто тихо растворялось в эфире, не оставляя после себя ничего, кроме нескольких усталых заголовков, извещающих о драме. Я полагаю, они потом живут новой жизнью, в новых профессиях. Может быть, сидят в офисе. А может, из них получаются медсестры, или учителя, или агенты по недвижимости, или родители, занятые на полную катушку. Интересно, что они чувствуют всякий раз, когда проходят мимо книжного магазина; возникает ли у них внутри щемящее желание вернуться в волшебную страну, которая их изгнала?