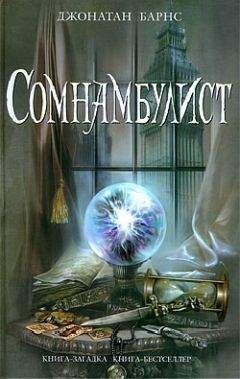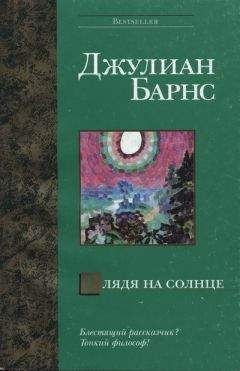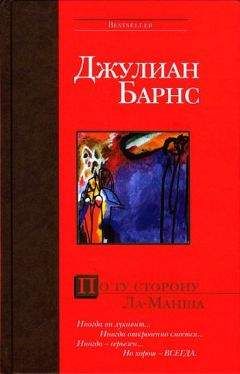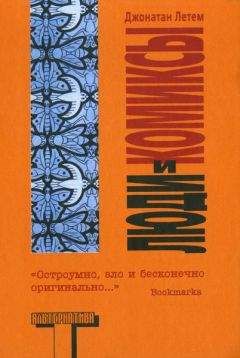Джонатан Барнс - Люди Домино
Я принес маме стакан воды, убедил ее выпить и, когда она, казалось, успокоилась, официально представил ей Эбби.
— Так вы, выходит, парочка? — спросила она, когда я вытер ниточку слюны с ее губ. — А я всегда думала, что ты голубой. — Она забулькала, пена появилась в уголках ее рта. — Никогда не видела тебя с женщиной. Считала тебя гомиком.
— Что происходит? — спросила Эбби, когда я вернулся в гостиную и мы уселись на диване, испуганно прижавшись друг к другу. — Генри, что происходит?
— Худшее, что только можно вообразить, — сказал я. — Вот что происходит. Такое, что хуже и не представить.
— Нет, — резко обрубила она. — Я сыта по горло всеми этими секретами. Я хочу точно знать, что происходит. Я хочу, чтобы ты сказал мне правду.
И тогда я обнял ее как можно нежнее и рассказал все, начиная с того дня, когда с дедом случился удар, до моей истории со Старостами, до всего, что я знал о снеге. Когда я закончил, она только кивнула, поблагодарила меня за честность и потянулась за пультом от телевизора.
На крохотном экране портативного телевизора Эбби (вытащенного с чердака, после того как мисс Морнинг разбила его предшественника) мы смотрели новости о начале кошмара. В каждом сюжете слышался тяжелый топот катастрофы — эпидемия самоубийств, заполненные до пределы церкви, синагоги и мечети, сосед, бросающийся на соседа, истерическое насилие на улицах — без границ, без разбору. Непонимание привело к сумятице, сумятица — к страху, страх — к панике, а паника неизбежно — к смертям.
В шесть часов вечера премьер-министр созвал чрезвычайное заседание парламента. Час спустя правительство рекомендовало всем оставаться дома, предостерегая от выхода на улицу. В восемь вечера мы услышали, что больницы переполнены, забиты невменяемыми пациентами (многие из них — бывший больничный персонал). В девять часов, как и следовало ожидать, было введено военное положение, а в девять двадцать пять у нас зазвонил телефон.
Я как раз зашел к маме, когда раздался звонок. Казалось, она бредила — бормотала всякую ерунду, мол, что-то идет из космоса проглотить Лондон целиком. Странно, но слова она произносила в каком-то отчетливом ритме, с явно выраженным удовольствием, словно действительно с нетерпением ждала гибели города.
Когда я вернулся в гостиную, Эбби опасливо смотрела на телефон, словно боялась, что он сейчас подпрыгнет и укусит ее. Я спросил, почему она не отвечает на звонок.
Она прикусила губу.
— Мне страшно.
Я снял трубку.
— Слушаю.
Голос я не узнал. Это был мужчина приблизительно моих лет.
— А где Эбби?
Я ничего не ответил.
— Мне нужно поговорить с Эбби.
— Кто это?
Теперь в голосе послышалась почти не скрываемая нотка воинственности.
— Джо. А вы кто?
— Меня зовут Генри Ламб, — ответил я и повесил трубку.
Эбби смотрела на меня, широко раскрыв глаза и дрожа.
— Кто это был?
— Ошиблись номером, — ответил я и по тому, как она посмотрела на меня, понял: она знает, что я лгу.
Я понес стакан воды маме и заставил ее выпить пару глотков, после чего она снова бессильно упала на спину.
— Все это происходит так быстро, — пробормотала она.
— Не надо, мама, — сказала я. — Не пытайся говорить.
Она тихонько застонала.
— Не думала, что все так кончится…
Ее веки закрылись. Я поцеловал ее в лоб, убедился, что она хорошо укрыта одеялом, и оставил одну.
В соседней комнате Эбби уже лежала в постели, одетая в мужскую футболку. Она была напряжена и нервно кусала ногти. Я автоматически разделся до трусов и лег рядом с ней.
— Как твоя мама? — спросила она.
— Не знаю толком, — ответил я. — По-моему, не очень.
Мы оба знали, что я еще не готов признать правду. По крайней мере, вслух.
— Она кажется такой милой, — сказала Эбби. — Насколько я могу судить.
— Ну, ты еще видишь ее далеко не в лучшем ее виде.
— Наверное.
Наступило неловкое молчание.
— Генри, как по-твоему, мы здесь в безопасности?
— Думаю, да, — сказал я. — Если уж мой дед отправил меня домой.
— Я как-то провела кое-какие изыскания по этому дому, — сказала Эбби, которую вдруг обуяло желание поговорить. — Он стоит здесь дольше, чем можно подумать.
— Правда? — сказал я, благодарный за перемену темы и готовый говорить о чем угодно, лишь бы заполнить тишину.
— В прошлом веке, прежде чем этот дом разделили на квартиры, здесь жил один экстрасенс.
— Экстрасенс?
— Ну да, медиум. — Она хихикнула, и как же было замечательно услышать ее смех. — Обалдеть.
— Думаю, в прошлом здесь произошло много чего таинственного, — тихо сказал я. — Вряд ли в моей жизни вообще было что-то случайное. Включая и эту квартиру.
Миг хорошего настроения прошел.
Эбби вздохнула, отвернулась и выключила свет.
Позднее, когда мы лежали в темноте, она сказала:
— Не могу поверить, что я нашла тебя. Ты — мой второй шанс, Генри. Я всегда хотела сделать что-нибудь стоящее со своей жизнью. Что-нибудь значительное. С тобой, может, у меня что и получится.
Я сжал ее руку, она — мою, а за окном продолжал падать снег, покрывая город второй кожей, панцирем зависти и ненависти.
Ночью мы слышали странные звуки — крики и стоны, звон разбитого стекла. Сразу после полуночи из щели почтового ящика донесся чей-то шепот. Нам сулили разные блага в обмен на определенные услуги и незначительные уступки.
Но мы прижались друг к другу крепко-крепко и замкнули слух от этих речей, понимая, что здесь — наше убежище, а выйти за дверь квартиры для любого из нас означает смерть.
Я думаю, была некоторая горькая ирония в том, что на следующий день наступил канун Рождества. Среди всего этого кошмара я стал забывать о том, что в такие дни вообще может произойти что-нибудь радостное.
Когда я проснулся, сторона постели, где спала Эбби, была пустой и холодной. Я завернулся в халат и, выйдя в гостиную, нашел ее на диване. Она смотрела телевизор, сжимая двумя руками кружку с горячим питьем, взгляд ее был прикован к катаклизмам, происходящим на экране.
Она даже не подняла на меня глаз.
— Город изолирован, — сказала она. — По границам Лондона установлены блокпосты. Люди видели солдат. Говорят, они стреляют на поражение.
Я сел рядом и прижал ее к себе.
— Все сошли с ума, — сказала она. — Они все сошли с ума.
Я нежно поцеловал ее в лоб, разгладил ей волосы и прошептал что-то слащавое и банальное.
— Спасибо, — сказала она и улыбнулась.
— Я должен посмотреть, как там мама.
Она с отсутствующим видом кивнула.
— Генри?
— Да.
— Что мы будем делать?
— Останемся здесь, — твердо сказал я. — Мы останемся в этой квартире и будем ждать. Пока мы вместе… пока мы остаемся здесь… нам ничего не страшно.
— Но за этой дверью люди, которые мне небезразличны. Что будет с ними?
— Все, что небезразлично мне, находится здесь. — Возможно, мой голос прозвучал чуть холоднее, чем мне того хотелось.
— Ты думаешь, твой дед мертв? — спросила она.
Я вышел из комнаты.
Конечно, я виню себя.
Я зашел к маме — она была в порядке. Дышала неровно, все еще бормотала и стонала вполголоса, но жара у нее не было, и она, пожалуй, казалась спокойнее, чем накануне. Я сделал, что мог, дал ей воды, протер лоб и перед завтраком помог ей кое-как добрести до туалета, даже смыл потом оставленные ею нечистоты.
Я не плохой сын, вот что я хочу сказать. Я сделал все, что мог.
Мы с Эбби как раз доедали наш нехитрый завтрак, когда раздался пронзительный крик.
Мама была на ногах, она кое-как оделась и теперь дергаными, механическими движениями зашнуровывала туфли, непрерывно бормоча что-то про снег.
Ей удалось оторвать кусок ковролина и отогнуть его. На открывшихся старых половицах она обнаружила нечто удивительное — какие-то метки, значки и символы, намалеванные выцветшей красной краской на дереве.
— Мама? — сказал я, осторожно подходя к ней и пытаясь не особо задумываться о том, что она видела на полу. — Что все это значит? А, мам?
— Он продал твоего отца. Ты знал это? Ради своей паршивой маленькой войны он пожертвовал твоим отцом. И знаешь, что пугает меня сейчас? Я думаю, он и тебя продал.
— Ты говоришь о дедушке? — спросил я.
— Об этом типе, — прохрипела она. — Об этом ужасном человеке. Он всегда этого хотел.
— Хотел чего? — спросил я. — О чем ты говоришь?
— Телик… Мы с твоим отцом всегда были против. А потом еще эти операции. Он заплатил за них. Ах, Генри. Надрезы мозга.
Я подошел ближе.
— Мам?
И тут я совершил ошибку. Я положил руку ей на плечо. Это было самое мягкое ограничение, легчайшее удержание, но моя мать считала иначе. Она издала крик гнева и боли. До того времени я и не подозревал в ней способности издавать такие звуки. Если бы я не убрал руку со всей быстротой, на какую был способен, уверен, она бы укусила меня.