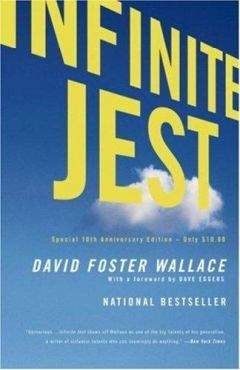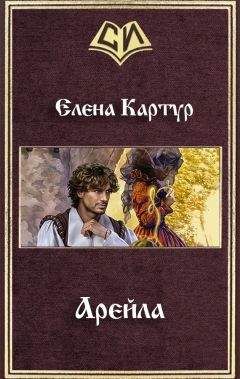Николь Нойбауэр - Подвал. В плену
Человеку на ходунках вновь удалось ее обскакать.
Но, может, его просто перевели в другое отделение или в стационар? Элли бросилась с едва теплящейся надеждой в приемное отделение. Там женщина с покрытой лаком прической как раз наливала себе первую чашку кофе из термоса.
– Я ищу господина Паульссена.
Крошечный огонек надежды тут же погас.
– Ох, примите мои искренние соболезнования. – Женщина уставилась на кофе, словно пить его сейчас было верхом бестактности. – Господин Паульссен умер вчера ночью. Вы родственница?
– Я из полиции, – произнесла Элли уже второй раз за это утро и показала удостоверение.
У женщины округлились глаза:
– Полиция? Что-то случилось?
– Я хотела с ним поговорить, но на это рассчитывать, наверное, не приходится. В комнате больше ничего не меняйте. Где его вещи?
– Мы их уже прибрали. Понимаете, эту комнату мы должны заселить уже сегодня. На нас очень большой спрос, – ответила она, дрожа от гордости.
– А картины?
– Ах, они там, в контейнере. Мы же не можем их хранить. Теперь к ним никому нельзя прикасаться, что ли?
У-ф-ф-ф. Элли, сжав зубы, держала себя в руках, чтобы не заорать на бедную женщину, которой больше всего сейчас хотелось спокойно выпить утренний кофе, вдыхая аромат цветной капусты.
– Где он сейчас?
– Ну, внизу…
Элли слушала ее вполуха, уже направляясь в подвал. Внизу она открыла тяжелую противопожарную металлическую дверь. Здесь, в коридоре, больше не звучала приглушенная музыка, не было искусственных цветов и сверкающей имитации мраморной плитки, лишь трубы виднелись над штукатуркой. Ей навстречу вышел одетый в белое санитар, Элли преградила ему путь:
– Элли Шустер, уголовная полиция. Я пришла по поводу господина Паульссена, он умер вчера ночью. Вы не могли бы что-нибудь рассказать мне об этом?
Санитар отступил назад, его халат издавал запах смерти.
– Сегодня утром он лежал в своей постели. Просто взял и заснул.
– Никто просто так не засыпает. Мы должны забрать его тело на экспертизу.
– Этого не потребуется, – улыбнулся санитар. – Наш врач уже выписал справку о смерти. Паульссен умер от сердечной недостаточности.
– Нет! – Ее голос эхом отражался от бетонных стен. – Сколько нам еще разъяснять это деревенским шаманам? От сердечной недостаточности не умирают!
Слишком много людей собралось в комнате для совещаний. Полицейский в форме и сотрудник управления по делам молодежи тоже присутствовали. Вехтеру нужно было поговорить с Оливером с глазу на глаз. Это, пожалуй, был единственный шанс на то, что мальчик что-нибудь расскажет. Но это противоречило всем предписаниям. С каждым днем возможность этого все уменьшалась.
Вехтер плохо распорядился своими ничтожными шансами. На самом деле он мог бы сегодня и воздержаться от допроса.
– Как дела, Оливер? – спросил он.
– Хорошо.
Первая ложь. Глаза Оливера лихорадочно поблескивали, пряди волос свисали ему на лицо, как паучьи лапки, каждые несколько секунд мальчик убирал их со лба. Загипсованную руку он прижимал к телу, словно стараясь ее защитить. Как во время их первой встречи. Но взгляд у него был очень внимательный.
– Извините за вчерашнее, – сказал он.
– Извинения принимаются. Не будем больше говорить об этом.
Вехтер сначала удивился высокому росту Оливера и лишь потом вспомнил, сколько ему лет. До такой высоты, должно быть, просто дорасти, все равно что надеть пальто.
«Оливер делал только то, чего от него ожидали. Нет, Оливер сегодня извинился не из любезности, сегодня он будет более сильным противником». Мысль о том, что Оливер является противником, стала для Вехтера новой. Это было словно прощание, будто он потерял что-то ценное. Сколько лжи ему пришлось выслушать? И сколько он еще услышит сегодня? Со дня на день он позабудет лицо Оливера. Когда Вехтер думал о мальчике, картинка расплывалась, билась на пиксели, как при прямом репортаже с места событий. Как обычно, он старался сохранять зрительный контакт. Оливер осматривал скучную комнату для совещаний, словно это было самое интересное место на земле.
– Мы вчера говорили о твоих воспоминаниях, – произнес Вехтер. – И я бы хотел точнее узнать, на чем они заканчиваются.
Оливер пожал плечами.
– Скажи, пожалуйста, ответ вслух для записи.
– Я точно не знаю.
– Пожалуйста, подумай об этом.
– Нет. Я не хочу.
Оливер ритмично постукивал правой ногой по ножке стула, и все его тело дергалось. Он трясся, словно паук-сенокосец.
– Когда воспоминания начинаются снова?
– Вы же знаете. В больнице.
– У тебя раньше бывали провалы в памяти? Забывал ли ты когда-нибудь то, что с тобой происходило?
– И когда? Как бы я об этом узнал?
– Тебя когда-нибудь лечили?
– Да, когда я упал со скейтборда…
– Я имею в виду, от провалов в памяти, лечил ли тебя психолог или психиатр?
Оливер оцепенел и посмотрел ему прямо в глаза:
– Что это значит? Это папа вам сказал?
– Тебя лечили?
Мальчик помотал головой, так что его локоны запрыгали из стороны в сторону:
– Нет. Никогда. Да и зачем?
Зрительный контакт оборвался.
Где-то же Баптист взял эту женщину-психолога.
– А кто тогда тебе выписывал справки?
– Это только из-за школы. Я уже давно не сумасшедший.
– Как чувствует себя человек, у которого пропало воспоминание?
Стоп. Он зашел слишком далеко. Это не входит в его задачи и не поможет продвинуться дальше.
К его удивлению, Оливер ответил:
– Потерянное время. Словно кто-то вырезал кусок.
Оливер сегодня возвел перед собой защитную стену и, казалось, немного овладел собой. Он защищал свои воспоминания изо всех сил. Но кого он защищал? Своего отца? Себя? Неизвестного третьего человека?
– Не все потеряно. Ты вспомнил голос отца…
– Это вас не касается.
Захлопнулся. Как моллюск. На какой-то миг мальчик приоткрыл свое убежище, и Вехтеру удалось попасть именно туда. Замечательное достижение.
Оливер откинулся на спинку стула:
– Я хочу сделать перерыв.
– Мы же начали всего несколько минут назад.
– Вы сказали, я смогу сделать паузу, когда захочу.
У него был стальной взгляд. Баптист-младший тянул время. Когда он вырастет, то, скорее всего, будет подавать иски за все свои паузы вместе с двумя адвокатами и одним экспертом. И снова Вехтеру показалось, что он прощается с мальчиком.
И в этот момент у него зазвонил мобильник.
– О чем вы спорили с Розой Беннингхофф? – спросил Ханнес.
Баптист покачал головой и улыбнулся, словно услышал неудачную шутку. Он далеко отодвинулся от стола, закинул ногу на ногу. Подошва туфли была направлена на Ханнеса. Знал ли он, что в азиатских странах этот жест означает смертельное оскорбление? Ну конечно, он знал.
– Вы поняли мой вопрос?
– Да, но это полная чепуха. Прекратите тратить впустую свое время.
– Мое время тут совершенно ни при чем. Пусть это будет моей проблемой.
Ханнес позволил себя спровоцировать. Баптист запустил руки в открытую рану. Ханнесу следовало быть не здесь. А раз уж он находился здесь, то должен был передать результаты судье, занимающемуся проверкой законности содержания под стражей. Прямо сейчас. А нужно было еще вчера.
– Почему вы убили свою сожительницу?
– Она больше не была моей сожительницей.
– Странно, что вы объяснили лишь это. В моем вопросе было нечто куда более важное, что вам стоило бы объяснить.
– Ваш вопрос – чушь. Я говорю вам это еще раз, для вашей записи. Я не убивал госпожу Беннингхофф.
– А причина для этого имелась?
– Для того, что не я ее убил? – Его смех, похожий на лай, эхом отразился от стен комнаты.
Ханнес сжал кулаки так, что ногти впились в ладони: только бы не схватить Баптиста за ворот и не вытрясти из него весь смех. Ногти оставили на коже следы в виде полумесяцев, сначала белые, потом красные. Если бы он ударил его, то оказался бы ничем не лучше самого Баптиста. Клавиша «Удалить» – стираем. Он был не лучше Баптиста.
Этому человеку удалось пустить весь допрос кувырком, словно машину, у которой все колеса разного размера. Черт побери, Ханнес должен был с этим справиться. Он снова посмотрел на часы и заметил взгляд противника. Баптист тянул время. Они оба тянули время. Им обоим следовало бы это прекратить.
– У вас были причины ее убить?
– Нет. Она больше не хотела поддерживать со мной связь. Но если бы я убивал всех, кто обходит меня стороной, то уже стал бы серийным убийцей.
– Почему она больше не хотела поддерживать с вами контакт?
– Sais pas[55]. Женщины такие.
От Ханнеса не укрылась эта грязная попытка воззвать к мужской солидарности.
– Вы никогда не пытались это выяснить?
– Она была не единственной женщиной в мире.
– Вы ей изменяли?
– Это имеет какое-то отношение к делу? Нет, это не имеет отношения к делу. Это совершенно не существенно и никак не может быть использовано в деле, выполняйте свою работу. А впрочем, нет, не изменял.