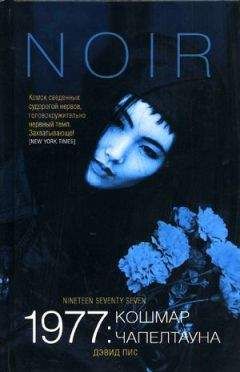Дэвид Пис - 1974: Сезон в аду
— Ага, — ответил красный.
Боуи уступил очередь Лулу, или Петуле, или Сэнди, или Силле. «Маленький барабанщик» нахлынул на меня, когда рождественские огни сменились тюремными прожекторами, а машина застряслась по стройплощадке «Фостерс Констракшн».
— Здесь?
— А почему нет.
Машина остановилась, «Маленький барабанщик» заглох.
Бордовый вышел и откинул сиденье, красный выгрузил меня на землю.
— Он, бля, совсем вырубился, Мик.
— Ага. Извини типа.
Я лежал между ними, лицом вниз, прикидываясь трупом.
— И что нам делать? Оставить его тут?
— Да ни хера.
— А что?
— Поразвлечься маленько.
— Только не сегодня, Мик. Мне реально в лом.
— Ну совсем чуток, а?
Они взяли меня за руки и поволокли через площадку, мои брюки сползли до колен.
— Тут?
— Ага.
Они протащили меня через брезент и дальше, по деревянному полу недостроенного дома, занозы и гвозди раздирали мне колени.
Они посадили меня на стул, связали за спиной руки и спустили штаны до щиколоток.
— Пойди, сходи за машиной, посвети фарами.
— Нас же увидят.
— Типа кто?
Я слышал, как один из них вышел на улицу, а другой подошел ко мне поближе.
Он сунул руку мне в трусы.
— Говорят, ты любитель клубнички, — сказал красный, сжимая мои яйца.
Я услышал звук работающего двигателя, и комнату внезапно залил белый свет.
— Долго мудохаться не будем, — сказал бордовый.
— Джо Багнер! — сказал, удар в живот.
— Кун Контэ! — сказал другой.
— Джордж, бля, Форман, — сказал третий, по челюсти.
— Перетасовка Али. — Пауза, я ждал… Удар справа, другой слева.
— Брюс, мать его, Ли!
Я отлетел назад вместе со стулом и рухнул на пол, грудь была отбита на хер.
— Пидор гнойный, — сказал бордовый, наклонившись и плюнув мне в лицо.
— Похоронить бы эту мандавошку.
Бордовый заржал:
— Под фундаменты Джорджа лучше не копать.
— Ненавижу таких вот мозговитых ублюдков.
— Оставь его. Пошли.
— Все, что ли?
— Да хрен с ним, пора возвращаться.
— Возьмем его машину?
— Поймаем тачку на Уэстгейте.
— Твою мать.
Пинок в затылок.
Ступня на правой кисти.
Темнота.
Я проснулся от холода.
Все было черным как смоль, с фиолетовой каемочкой.
Я отшвырнул стул и вытащил руки из веревки.
Я сел на деревянный пол, голова качалась, тело ныло.
Я дотянулся до брюк. Они были мокрые и воняли чужой мочой.
Я надел их, не снимая ботинок.
Я медленно встал.
Один раз я упал, потом вышел из недостроенного дома на улицу.
Машина стояла в темноте, двери были закрыты.
Я подергал обе ручки.
Заперто.
Я поднял с земли расколотый кирпич, обошел машину и разбил окно с пассажирской стороны.
Просунул руку и поднял кнопку.
Я открыл дверь, снова взял кирпич и сломал замок бардачка.
Я вытащил атласы, ветошь и запасной ключ.
Я обошел машину, открыл водительскую дверь и сел.
Я сидел в машине, глядя на темные пустые дома, вспоминая самую лучшую игру, на которую мы ходили с отцом.
«Хаддерсфилд» против «Эвертона». Таун должен был бить пенальти с края территории «Эвертона». Вик Меткаф выходит, обыгрывает стенку, Джимми Глаззард головой забивает мяч в ворота. Гол. Рефери не засчитывает его, почему — не помню, говорит: давайте еще раз. Меткаф снова выходит, обыгрывает стенку, Глаззард головой забивает мяч в ворота. Гол — и вся толпа в полном экстазе.
8:2, мать их ети.
— Вот пресса повеселится. Похоронят их на фиг, — смеялся отец.
Я завел двигатель и поехал в Оссетт.
Подъехав к дому на Уэсли-стрит, я посмотрел на отцовские часы.
Их не было.
Наверное, где-то около трех.
Черт, подумал я, открывая дверь со двора. В дальней комнате горел свет.
Черт, надо хотя бы поздороваться. Раз, и дело с концом.
Она сидела в одежде в своем кресле-качалке и спала.
Я закрыл дверь и пошел наверх, ступенька за ступенькой.
Я лежал на кровати в пропахшей мочой одежде, глядя в темноте на плакат Питера Лоримера, думая, что отец был бы очень расстроен.
Девяносто миль в час.
Часть третья
МЫ ВСЕ — МЕРТВЕЦЫ
Глава десятая
Воскресенье, 22 декабря 1974 года.
В пять утра десять полицейских во главе со старшим полицейским инспектором Ноублом взломали кувалдами дверь маминого дома, ударили ее по лицу, когда она вышла в коридор, затолкали обратно в комнату, бегом поднялись на второй этаж, держа оружие наготове, вытащили меня из постели, выдирая клочьями волосы, спустили меня с лестницы, ударили, когда я приземлился, и поволокли на улицу, по асфальту, в кузов черного фургона.
Они захлопнули двери и уехали.
В фургоне они избили меня до потери сознания, после чего стали хлестать по лицу и мочиться на меня до тех пор, пока я не пришел в себя.
Когда фургон остановился, старший полицейский инспектор Ноубл открыл дверь, выволок меня наружу за волосы и потащил через заднюю стоянку полицейского отделения Уэйкфилда на Вуд-стрит.
Два офицера в форме заволокли меня за ноги на крыльцо, потом внутрь здания, где в коридорах вдоль стен валялись черные тела. Они били, пинали и плевали на меня, таща за пятки по желтым коридорам, снова и снова, вверх-вниз, вверх-вниз.
Они сфотографировали меня, потом раздели, срезали повязку с правой руки, снова сфотографировали, взяли отпечатки пальцев.
Доктор-пакистанец посветил мне в глаз фонариком, поскреб лопаткой у меня во рту, взял соскоб из-под моих ногтей.
Они отвели меня голого в комнату для допросов, шесть на десять, с люминисцентными лампами, без окон. Меня посадили за стол и сковали наручниками руки за спиной.
Потом они оставили меня одного.
Некоторое время спустя они открыли дверь и выплеснули мне в лицо ведро мочи и дерьма.
Потом снова оставили меня одного.
Некоторое время спустя они открыли дверь и стали поливать меня из шланга ледяной водой до тех пор, пока я не рухнул на пол вместе со стулом.
Потом они оставили меня лежать на полу, прикованного наручниками к стулу.
Из соседней комнаты доносились крики.
Крики продолжались, как мне показалось, в течение часа, потом прекратились.
Тишина.
Я лежал на полу и слушал, как гудят лампы.
Некоторое время спустя дверь открылась, и в комнату вошли два крупных мужчины в хороших костюмах. Они принесли с собой стулья.
Они разомкнули наручники и подняли мой стул.
У одного из них были усы и бакенбарды, ему было лет сорок. У другого были жидкие пегие волосы, а изо рта пахло блевотиной.
Пегий сказал:
— Сядь и положи руки на стол ладонями вниз.
Я сел и сделал так, как мне велели.
Пегий бросил наручники усатому и сел напротив меня.
Усатый обошел комнату и встал за моей спиной, поигрывая наручниками.
Я посмотрел на свою правую руку, лежавшую на столе: четыре пальца слиплись в один, сто оттенков красного и желтого.
Усатый сел и уставился на меня, положив наручники на кулак, как кастет.
Внезапно он вскочил и обрушил кулак в наручниках на мою правую кисть.
Я заорал.
— Руки на стол.
Я положил руки на стол.
— Ровно.
Я попытался положить их ровно.
— Гадость какая.
— Надо подлечить.
Усатый сидел напротив меня, улыбаясь.
Пегий встал и вышел из комнаты.
Усатый молча улыбался.
В моей правой кисти пульсировали кровь и гной.
Пегий вернулся с одеялом и накинул его мне на плечи.
Он сел и достал пачку «Джи-пи-эс», предложил сигарету усатому.
Усатый достал зажигалку и зажег обе сигареты.
Они откинулись на спинки стульев и выпустили дым мне в лицо.
Руки мои начали дрожать.
Усатый наклонился вперед и занес сигарету над моей правой кистью, катая ее между пальцев.
Я отвел руку чуть-чуть назад.
Внезапно он наклонился, одной рукой схватил меня за правое запястье, другой прижал сигарету к тыльной стороне моей ладони.
Я заорал.
Он отпустил мое запястье и откинулся на спинку стула.
— Руки на стол.
Я положил руки на стол.
Моя горелая кожа издавала зловоние.
— Еще одну? — спросил пегий.
— Я не против, — ответил он, беря еще одну сигарету.
Он прикурил и уставился на меня.
Он наклонился вперед и снова занес сигарету над моей рукой.
Я встал.
— Чего вы хотите?
— Сидеть.
— Скажите мне, чего вы хотите!
— Сидеть!
Я сел.
Они встали.
— Встать.
Я встал.
— Смотреть вперед.
Я услышал собачий лай.
Меня передернуло.
— Не двигаться.