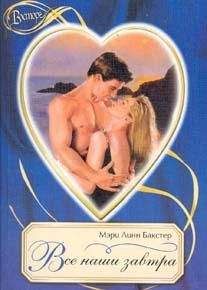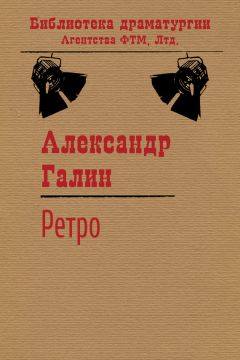Питер Бенчли - Остров
Однако в Испании был издан указ о том, что вся торговля с Новым Светом должна вестись только испанскими кораблями. Невзирая на то, что флот из Испании прибывал только один-два раза в год, а по его прибытии – у них уже практически не оставалось провизии. Невзирая на то, что, следуй колонисты букве закона, они обрекли бы себя на жизнь без строительных материалов, без одежды и еды. Колонистам было запрещено выращивать сельскохозяйственную продукцию, делать собственную обувь, вести торговлю с кем бы то ни было.
Таким образом, уже одним своим существованием буканьеры поставили себя вне закона, и потому подвергались частым нападениям испанцев, которые убивали тех, кого могли схватить, и изгоняли тех, кого не могли. В своей извращенной мудрости испанцы ухитрились лишить своих колонистов и моряков жизненно важных средств существования, и, в то же время, они возбудили в этих выносливых, умелых, знающих жизнь в на море и на суше людях глубокую ненависть к Испании.
На одну охоту было трудно прожить, и буканьеры стали нападать на испанские корабли. Они плавали на небольших, быстроходных судах, более маневренных, чем большие, медлительные испанские галеоны... Они действовали скорее смекалкой, чем силой, и использовали оружие, быстро и легко достающее врага в ближнем бою: ножи, тесаки и ручные топорики, которые находили слабину в доспехах испанца и рубили его на части еще до того, как он успевал прицелиться из своей неуклюжей аркебузы.
Слухи о буканьерах разнеслись, как вирус, по испанскому флоту и испанским колониям, сначала пропорционально тем зверствам, которые они совершали, а затем – превзойдя всякую реальность. Как воскликнул один испанский моряк, увидев заполнившую его корабль пьяную рвань с дикими глазами:
“Господи, благослови нас! Это же дьяволы!”
Из всех отчетов, которые прочитал Мейнард, следовало, что самым ужасным из буканьеров был Жан-Давид Hay, взявший себе имя по месту рождения – Ле-Сабль-д’Оллонь, во Франции, – сущий дьявол для испанцев. И если от Моргана еще можно было ожидать снисхождения, то испанец в руках Л’Оллонуа был человеком, у которого оставался только вчерашний день.
Мейнард пролистал страницы книги Эсквемелина. “У Л’Оллонуа была привычка, – читал он, – если человек ни в чем не признавался под пыткой, немедленно разрубать его на части своей саблей и вырывать у него язык; он стремился сделать это, по возможности, со всеми испанцами мира”.
Далее, в той же стопке страниц, Мейнард обнаружил ссылку на событие, как раз и сделавшее Л’Оллонуа мифической фигурой. Hay схватил нескольких испанцев, и стремился получить от них информацию, которой они не располагали. Мейнард читал: “Л’Оллонуа пришел в ярость и возбуждение, он выхватил свою саблю и, разрубив грудь одного из этих бедных испанцев, вырвал своими святотатственными руками его сердце, и стал кусать и грызть его зубами, как изголодавшийся волк, говоря остальным: «Со всеми вами я сделаю то же самое...»“
В отличие от испанцев, среди своих собственных людей Л’Оллонуа пользовался популярностью. Он считался бесстрашным и справедливым человеком. Он строго соблюдал законы дележа добычи. И – самое главное – он был очень удачлив. Путешествие с Л’Оллонуа было почти гарантией богатой добычи, которая будет потрачена на надолго запомнившуюся оргию в тавернах и притонах Порт-Ройяла на Ямайке.
Мейнард предположил, что хроника Эсквемелина большей частью неизбежно была основана на слухах – его непосредственное восприятие событий, каким бы оно ни было, прекратилось с его отъездом в Европу в 1672 году. Но работы других историков, находившихся еще дальше от описываемых мест, были, естественно, еще менее достоверными и надежными. Считалось, что эпоха буканьеров закончилась к началу восемнадцатого столетия. К этому времени Испания перестала быть главной силой Нового Мира и превратилась в динозавра, осаждаемого со всех сторон несколькими нациями. Война за Испанское наследство, длившаяся до 1714 года, сделала пиратство ненужным: вместо того, чтобы оставаться вне закона, капитан судна мог вступить в союз с той или иной стороной, и грабить “вражеские” корабли под эгидой избранного суверена.
После 1714 года был установлен порядок, в соответствия с которым человек, напавший на какое-либо судно, считался просто разбойником – независимо от мотивов. И даже легендарный Золотой Век пиратов, о котором было произнесено столько напыщенных романтических речей, был сужен до одного десятилетия. К 1724 году Эдвард Тич (“Черная Борода”), Калико Джек Раккам, Сэмюэл Беллами и другие были или мертвы, или избрали себе более прозаические занятия.
Но теперь, сидя голым на земляном полу, прикованный цепью к потолку хижины, редактор отдела “Тенденции” еженедельника “Тудей” осознал, что в своих изысканиях большинство историков были вопиюще небрежны.
Он отложил в сторону страницы книги Эсквемелина, сложил остальные бумаги по датам, и продолжил чтение. Ему потребовалось немного времени, чтобы найти недостающий кусок – это был дневник, который вел первый Л’Оллонуа до того, как вышел в свое последнее плаванье.
В начале 1670-х годов буканьеры стали нападать на испанские поселения в Центральной и Южной Америке. Они превращали население, или даже сам город, в заложников, вышибали любой возможный выкуп и исчезали в своих убежищах. Но Л’Оллонуа не был более желанным гостем в большинстве буканьерских убежищ. За ним охотились, и связь с ним считалась преступлением, за которое можно было заработать тонну камней на грудь, бамбуковую спицу сквозь уши, или виселицу. Даже по стандартам его коллег, его психопатическая жажда крови считалась чрезмерной. Одно из убежищ закрылось для него после того, как он в пьяном угаре отрубил руки шлюхе, отказавшейся пить вино из заплесневелой бочки.
“То, что они называют обществом, – отметил он в своем дневнике, – слишком меня достало. Я сохраню свою свободу. Я не стану лавочником”. Он поднял паруса и двинулся к цепи необитаемых островов, известных под названием “Кайкос”.
“Бог не любит это место, – писал он, – значит, буду любить я. То, что Господь называет любовью, приносит мне печаль; а то, что люблю я, является грехом перед Всевышним. Испанцы утверждают, что Бог любит их, если так, то Он дурак”.
Мейнард подумал, что острова вполне подходили тому, кто бежал от общества. Они были лишены пищи, воды, леса и животной жизни, так что кораблям не имело смысла здесь останавливаться. Их посещали только потерпевшие кораблекрушение, чье имущество и припасы можно было конфисковать, чьих женщин, если таковые имелись, можно было “обобщить”, и чьи жизни можно было сохранить – если человек владел каким-либо полезным ремеслом, – или отнять, не опасаясь возмездия.
Хотя острова эти были не слишком приветливы, они обеспечивали неограниченное число кораблекрушений, так как находились между двумя самыми оживленными глубоководными трассами, ведущими с Кубы, с Пуэрто-Рико и из Южной Америки в Атлантический океан.
“У нас будут посетители, – писал Л’Оллонуа, – и те, кто не достанется Природе, достанутся мне”.
Он взял с собой двадцать человек: убийц, чью свободу он купил накануне казни, подкупив власти и пообещав им, что этих людей больше никто никогда не увидит; пьяниц, которых он окрутил в доках; подростков, которых он соблазнил обещаниями романтики и богатства; и шесть похищенных проституток, две из которых оказались беременными, и все – больными. Шлюх он считал для своей миссии не менее важным фактором, чем припасы и порох, – ему нужно было сохранить гетеросексуальное общество. Он утверждал, что гомосексуальность подобна цинге. Она возникала во время длительных плаваний и нарушала слаженную работу команды.
“Если Всевышний и я в чем-то и сходимся, – говорилось в его дневнике, – то это в том, что мы оба питаем отвращение к содомии. Содомит хуже чумы. Он образует странные союзы, стравливает одного человека с другим, требует всевозможных уступок. Подобного поведения можно ожидать от женщин. Во всех других случаях оно создает путаницу”.
2 июля 1671 года Л’Оллонуа нашел остров, который его удовлетворил: Юн лежит посередине архипелага – жалкий островок примерно в лигу длиной и пол-лиги шириной – и покрыт кустарником, который может обеспечить пропитание скоту. К востоку располагаются невидимые мели, которые не сможет переплыть ни одно судно, на западе – синяя вода и гавань в виде рыболовного крючка, которая скроет нас и даст возможность устраивать засады. Везде соляные болота и пустоты, которые можно превратить в хранилища воды. Жизнь будет веселой, если шлюхи прекратят свои кошачьи концерты”.
В своем дневнике Л’Оллонуа нарисовал грубую карту района, и Мейнард попытался сравнить ее с тем, что он помнил из морских карт. Навидада не было – Мейнард предположил, что Л’Оллонуа никогда его не видел, а Уэст-Кайкос и Саут-Кайкос были грубыми контурами, соприкасавшимися с банкой Кайкос (поле крестиков, обозначавших малую глубину воды). Остров Л’Оллонуа имел вид почки. Он находился в стороне от воздушных путей, от маршрутов судов, и был окружен (по крайней мере, на современных картах) предупреждениями держаться подальше.