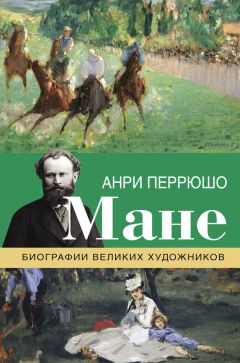Элизабет Костова - Похищение лебедя
Я вышла из кухни. Если он из-за собственной безответственности потеряет работу, вернусь в Энн-Арбор и буду жить с матерью. Рожу девочку, и три поколения женщин будут заботиться друг о друге, пока она не вырастет и не найдет себе лучшую жизнь. Я прошла в нашу спальню, легла на заскрипевшую под моим весом кровать и натянула на себя плед. Слезы слабости выступили у меня на глазах и покатились по щекам. Я утирала их рукавом.
Через несколько минут появился Роберт. Я закрыла глаза. Он присел на край кровати, заставив ее провиснуть еще сильней.
— Прости, — сказал он. — Я не хотел тебя обижать. Просто я совсем измотан занятиями и ночной работой.
— Почему же ты тогда не притормозишь? — спросила я. — Я тебя уже совсем не вижу. Да ты, кажется, больше спишь, чем работаешь.
Я украдкой взглянула на него. Лицо снова выглядело нормальным. Верно, тот странный взгляд мне почудился.
— Только не ночью, — сказал он. — Ночами заснуть не могу. Я напал на тему, большую тему, и считаю, мне надо выжать из нее все, что можно. Я подумываю сделать новую серию, портретную в основном, и, мне кажется, я не смогу уснуть, пока не доделаю хотя бы часть. От этого я здорово устаю, и приходится отсыпаться. По-моему, я три ночи провел на ногах.
— Ты мог бы притормозить, — повторила я. — Все равно придется притормозить, когда родится ребенок.
«А это может случиться в любую минуту», — добавила я про себя, но из суеверия промолчала.
Он погладил меня по волосам.
— Да, — сказал он, но это прозвучало рассеянно, я почувствовала, что он опять отдаляется.
Кое-кто из моих подруг, уже ставший матерью, болтая у песочницы, говорил, что мужья иногда «отключаются» перед появлением ребенка, и посмеивались, словно в этом не было ничего страшного. «Но стоило ему увидеть этого малыша…» — добавляли они, и все вокруг согласно кивали. Конечно, первый взгляд на младенца все исправит. Может быть, и с Робертом все станет, как прежде. Он будет вставать по утрам, писать в разумное время, не думая, выполнять свои обязанности и ложиться вместе со мной. Мы будем вместе гулять с коляской и вместе укладывать малыша в кроватку вечерами. Я сама снова стану художницей, и мы сможем работать посменно, по очереди нянчить малыша и писать. Может быть, можно будет поначалу устроить ребенка у нас в комнате, а вторую спальню превратить в мою студию.
Я думала, как описать все это Роберту, как попросить его об этом, но не было сил подыскивать слова. Кроме того, если он не станет заниматься этим со мной и ради меня по доброй воле, что же он будет за отец? Меня уже беспокоила мысль, что он словно не замечает, как мало у нас денег и что пора оплачивать счета. Я всегда сама их оплачивала, аккуратно, с чувством выполненного долга приклеивала марки в правом верхнем углу, хоть и знала, что доставленные конверты будут вскрывать как попало. Роберт чуть сжал мне плечо.
— Мне надо закончить работу, — сказал он. — Думаю, смогу к завтрашнему дню закончить, если сейчас возьмусь.
— Она — твоя студентка? — я насильно заставила себя задать вопрос, боясь, что после не решусь.
Он как будто не удивился. Собственно, вопрос как будто не дошел до него — в нем не было чувства вины.
— Кто «она»?
— Женщина с портрета наверху.
Я снова заставила себе переспросить, уже жалея об этом. Я надеялась, что он не ответит.
— А, я пишу не с натуры, — сказал он. — Просто пытаюсь ее представить.
Странное дело, я ему не поверила, но и не думала, что он лжет. Я знала, что отныне с ужасом буду встречать каждое молодое лицо в кампусе, каждую кудрявую темноволосую головку. Он уже рисовал ее, еще в Нью-Йорке, или по крайней мере во время переезда. Лицо наверняка было тем же самым.
— Мне никак не дается платье, — добавил он после короткой паузы. Он хмурился, скреб лоб под волосами, потирал нос: обычный, задумчивый, увлеченный.
«Господи, — подумала я, — какая же я мнительная дура. Он художник, настоящий художник, у него свое видение. Он делает, что хочет, что приходит ему в голову, и делает это блестяще. Это не значит, что он спит со студенткой или с нью-йоркской натурщицей. Он же и не бывал там с нашего переезда. Это вовсе не значит, что он не будет хорошим отцом».
Он встал, нагнулся с высоты своего роста, чтобы поцеловать меня, задержался в дверях.
— Да, забыл тебе сказать. Факультет выдвинул меня на персональную выставку в будущем году. Мы выставляемся по очереди, ты ведь знаешь, но я не ждал, что меня выпустят так скоро. Участвует и городской музей. И я получу подъемные.
Я села.
— Это же чудесно! Ты мне не говорил.
— Ну, я только вчера узнал. Или позавчера. Я хотел бы закончить к тому времени этот холст, а может, и всю серию.
Он вышел, а я еще полчаса улыбалась под пледом. Пожалуй, я, как и Роберт, заслужила право вздремнуть.
Но в следующий раз, когда я в поисках Роберта поднялась на чердак, обнаружилось, что холст чисто выскоблен, готов для новой картины, может быть, красное платье так и не получилось. Я готова была поверить во второй раз — мне только кажется, что это лицо полно грустной любви к нему.
18 декабря
Mon cher oncle et ami!
Как Вы были добры, что зашли вчера, как раз когда начался дождь, предвещавший унылый день. Так приятно было видеть Вас и слушать ваши рассказы. А сегодня снова дождь! Хотела бы я суметь нарисовать дождь — как это вообще делается? Мсье Моне, безусловно, это удается. И у моей кузины Ивонны, которой по душе все японское, в гостиной висит серия гравюр, о каких французские художники могли бы только мечтать — но, может быть, в Японии дождь более вдохновляет, чем в Париже. Как бы я хотела знать, что все в природе доступно моей кисти, как кисти Моне, хоть кое-кто и отзывается недобро о нем, его коллегах и их экспериментах. Подруга Ивонны, Берта Моризо, выставляется, как Вы знаете, вместе с ними, и она уже приобрела известность (она очень часто участвует в открытых выставках, а это, вероятно, требует немалой отваги). Хорошо бы, снова пошел снег… Чудесная зимняя красота слишком медлит в этом году.
К счастью, нынче утром у меня есть Ваше письмо. Как мило с Вашей стороны писать не только папá, но и мне. Вы незаслуженно добры к моим успехам, но студия на веранде помогает в работе, я коротаю в ней часы, когда папá спит. С утренней почтой пришло также известие, что Ив задерживается на две недели — удар для всех нас, но особенно для папá. Должно быть, лучше совсем не иметь детей, как мы, чем единственного, как мой свекор, такого любимого и постоянно отсутствующего. Я сочувствую папá, но мы сидим у огня, держимся за руки и читаем вслух Вийона. Его рука стала такой иссохшей, что могла бы послужить моделью для стариков Леонардо или же какому-нибудь древнеримскому скульптору. Как замечательно, что Ваше большое полотно продвигается и что Ваши статьи пользуются широким успехом, и я настаиваю на своем праве гордиться Вами как кровная родственница. Прошу Вас принять поздравления от Вашей безумно любящей племянницы.
Беатрис.Глава 23
КЕЙТ
Ингрид родилась 22 февраля в родильном доме Гринхилла. У меня в памяти никогда не померкнет та минута, когда я поняла, что она жива, здорова и прекрасна, и тут же почувствовала, как ее ладошка крепко обхватила мой палец. И роды не убили меня. Роберт стоял рядом, дотрагиваясь кончиком пальца, почти таким же большим, как ее носик. Оказалось, что я плачу, и, глядя на Роберта, я почувствовала такую светлую любовь к нему, что не могла глаз оторвать от его лица, сиявшего, как обручальное кольцо. Я до тех пор не понимала, что значит любить. Я не могла решить, кого из двух — малюсенькую или высоченного — я люблю сильней. Почему я никогда прежде не замечала божественного начала в Роберте, повторенного теперь в крошечной головке, касавшейся моей груди, в ореховых глазах, с таким недоверчивым удивлением оглядывавших все вокруг?
Мы назвали ее в честь моей давно покойной бабушки из Филадельфии. Ингрид неплохо спала, и у нас с первой ночи установилось расписание. Роберт с Ингрид спали, а я лежала, глядя на них, или читала, или ходила по дому, или мыла ванную, или старалась уснуть. Роберт, как видно, слишком уставал, чтобы рисовать по ночам, малышка будила нас трижды за ночь. Совершенные пустяки, уверяла я его, а он находил это чрезвычайно утомительным. Я предлагала уступить ему право нянчится с ней, а он смеялся сквозь сон и говорил, что он бы рад, но его молоко, даже будь оно у него, было бы не таким вкусным.
— Слишком много токсинов, — говорил он, — от красок.
Я с легким раздражением, или, может быть, ревностью, отмечала самодовольство в его голосе. В моей крови не было никакой краски, только здоровая пища и послеродовые витамины, которые по-прежнему казались мне слишком дорогими, но я не хотела ничем обделять ребенка.