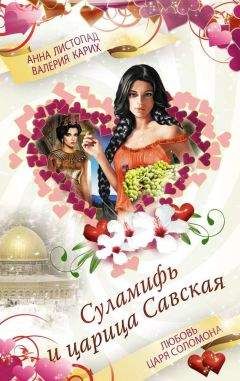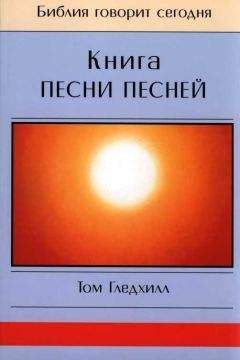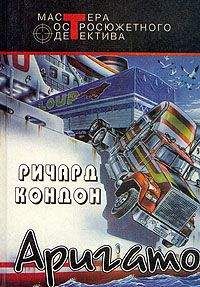Ричард Кондон - Маньчжурский кандидат
— Айзелин участвовал в выполнении тридцати одного задания в Арктике, да плюс еще работал офицером связи. — Тут он неожиданно добавил, что ночи там длятся по полгода. — Айзелин достаточно хлебнул войны, чтобы до конца своих дней стремиться к миру и покою.
Это мать Реймонда научила Джонни называть себя Айзелином во время судебных разбирательств или когда он давал интервью. Для того, чтобы лишний раз создать себе рекламу, ведь Джонни постоянно цитировали на земле, на море и в воздухе; в результате его имя упоминалось не реже, чем Нью-Йоркская фондовая биржа.
Когда мать Реймонда и Джонни подали официальное прошение о присуждении ему Серебряной Звезды, по-видимому, по той причине, что никто больше не догадался подать касательно него такое прошение, приложив также заверенную копию личного дела, какой-то избиратель вдруг почувствовал себя оскорбленным и разразился возмущенным письмом, где горько сетовал по поводу грубого нарушения всех правил приличий, под чем подразумевалось получение Джонни медали по его же собственному запросу. Мать Реймонда продиктовала, а Джонни подписал ответное письмо, в котором, в частности, содержался такой смелый поворот: «Я вынужден подчиняться правилам, обуславливающим, сколько таких наград должно быть выдано. Мне и самому это крайне неприятно, но другого способа просто не существует».
Однако пока река времени несла Большого Джона и мать Реймонда сквозь национальные и международные баталии, ведущиеся ради создания более совершенной Америки, самой спорной частью личного дела Джонни продолжало оставаться его «ранение», касательно которого он утверждал, что оно получено в бою. Хотя нашивки за боевое ранение он не получил, и бывший министр обороны, изучив его личное дело, опроверг утверждение Айзелина о каком бы то ни было ранении, полученном во время боевых действий, однако когда на Слете Ветеранов Большого Джона спросили, почему он носит ботинки с двойной подошвой (а как бы еще он стал Большим Джоном?), губернатор Айзелин ответил, что носит такие ботинки, потому что во время боевых действий в Арктике потерял существенную часть пятки. Есть расхождения в воспоминаниях тех, кто слышал его тогда. То ли он сказал, что «потерял существенную часть ноги», то ли речь шла действительно всего лишь о пятке.
Неутомимый «Джорнал», в год своих доблестных, но тщетных попыток дискредитировать Джонни по-крупному, обнаружил личный дневник офицера, служившего вместе с ним на севере. Этого человека звали Френсис Виникус, и он впоследствии пользовался большим авторитетом среди переселенцев из Британии и Европы. Запись, сделанная в его дневнике 22 июня 1944 года, проливает свет на обстоятельства, при которых Джонни получил ранение.
«Джонни Айзелин просто помешан на сексе. На первый взгляд кажется, что так сходить с ума по сексу в этой безбрежной ледяной пустыне может только человек с наклонностью к самоубийству или гомосексуалист, однако Джонни ни то, ни другое. Он просто стойкий фанатик этого дела. Здесь недавно возник новый эскимосский лагерь, на расстоянии трех миль от нас, по ту сторону поля первобытного льда, где постоянно дует штормовой ветер, несущий бритвенно острые льдинки, способные изрезать все лицо. В лагере есть женщины. Все знают об этом и все согласны, что они были бы весьма кстати, если бы туда не нужно было добираться, тайком и по одному зараз, с привязанными к сапогам ледовыми захватами, через это жуткое трехмильное поле, в такой холод, который похуже того, что царил в немецком ледяном аду Найфельхейм. В результате доползаешь до иглу в таком состоянии, что всякий интерес к сексу пропадает до конца войны. Я однажды проделал этот путь и совершенно вымотался, однако обратно вернулся быстрее, чем добрался туда, потому что торопился избавиться от жуткого запаха. Это такой специфический запах эскимосских женщин, у нас ничего подобного не встретишь, потому что они моют волосы в накопленной за несколько дней моче, а также вечно закутаны в эти свои заплесневелые шкуры и сидят на диете из гнилой пищи вроде рыбьих голов и протухшего китового жира.
Джонни сказал, что ему плевать на все эти „мелкие неудобства“, потому что он должен иметь женщину, или у него голова взорвется. В течение одиннадцати дней он тренировался, ежедневно проделывая весь путь туда и обратно. Казалось, холод и ветер для него просто не существуют. Он мог думать только о женщинах. Возвращаясь, Джонни отдыхал и стонал, и скулил от вожделения, и с гордостью говорил, что начинает привыкать к вони этих женщин. Говорил, что если бы эскимосские мужчины вдруг попали в Чикаго и учуяли аромат наших женщин, пахнущих французскими духами, то им бы тоже стало плохо, и туг, мол, все дело в привычке.
Вчера Джонни решил, что готов. Он в темноте пересек ледяное поле, ориентируясь по компасу и огням. Джонни рассказал мне всю эту историю сегодня утром, перед тем, как его увезли в Этах, где он пробудет до тех пор, пока сменившийся с дежурства самолет не доставит его в Готхоб.[22] Его радушно встретили, рассказал он примерно в тридцати ярдах от множества ледяных холмов, которые, как выяснилось, и были иглу. Джонни не говорит на языке эскимосов, а они на языке Джонни, но он делал руками такие неприличные жесты… Ну, то, что он вытворял руками, рассказывая мне, как объяснял эскимосам, чего хочет, заставило меня задаться вопросом: как я смогу пережить эту зиму? Джонни сказал, они тут же прониклись сочувствием, все поняли и жестами велели ползти за ними в одну из этих каменных глыб. Прежде чем войти, он раздал кое-что из своего неприкосновенного запаса. По его словам, Джонни тогда подумал, что все окажется очень просто, если только суметь разобраться, где мужчины, а где женщины, потому что все они закутаны в меха, а лица у всех круглые, плоские и блестят, точно серебряный доллар.
Джонни вполз в иглу на четвереньках и едва не потерял сознание от вони. Он привыкал к запаху этих женщин на арктическом ветру, снаружи от их снежных домов. Внутри было очень жарко: нагретые кирпичи, тепло тел, горящая ворвань, дымящийся сухой мох и лишайник. По периметру были расставлены кожаные ведра с прокисшей мочой. Джонни сказал, что его, наверно, привели в местный салон красоты. Другое его мимолетное впечатление сводилось к тому, что большая часть выловленной за время последнего сезона рыбы, по-видимому, сгнила, кроме того, вонь, едкая вонь исходила от закоптелых, немытых ног. Этим утром, когда от инфекции у него начался жар, бедняга все повторял: „Ох, боже мой, эти ноги!“
В иглу набилось человек четырнадцать, хотя у Джонни возникло чувство, что, может быть, они еще и сидят на каком-то количестве старух. Все сбросили с себя одежду. Их старообразный вид сразил Джонни, как удар каменного топора, и он осел на пол, хотя сознание не потерял. Он сказал, что ему тут же предложили трех разных людей, по всей видимости, женщин, которые, по первому впечатлению, ничего не имели против него. Хотя Джонни стало ясно, что к вони в этом крошечном помещении при всем желании привыкнуть невозможно, он сумел сконцентрироваться на мысли, что перед ним женщины, и выкинуть из головы все другие соображения. Речь ведь не шла о том, сказал он, чтобы трахаться с женщиной весь следующий год; тогда, несомненно, она должна была пахнуть, как цветок. Речь шла о том, чтобы трахнуть кого-то прямо здесь и сейчас, и он начал раздеваться. И он действительно разделся перед всеми этими людьми, время от времени останавливаясь лишь для того, чтобы ущипнуть или пощекотать близстоящую женщину, если, конечно, это была женщина. Как вдруг, совершенно ни с того, ни с сего, один из эскимосов закричал на него по-немецки.
Джонни сказал, что сам он не говорит по-немецки, но их речь понимает, потому что в его родном штате многие говорят на этом языке. Тут этот эскимос начал срывать с себя одежду с таким видом, с каким человек срывает куртку, когда собирается драться, все время вопя по-немецки и тыча пальцем в эскимосскую женщину, с которой Джонни заигрывал, в ответ на что та глупо захихикала. Как только этот человек снял свои меха, Джонни увидел, что под ними надета форма немецкого офицера. По словам Джонни, до сих пор он вообще не верил, что враги действительно существует, и потому был потрясен до глубины души. Эскимосы в иглу закричали на немца, то ли чтобы он заткнулся, то ли решив, что, накинувшись на Джонни, он бросает тень на их гостеприимство, а может, им просто нравилось смотреть, как трахаются.
Во всяком случае женщина протянула руку, крепко ухватила Джонни за член и не отпускала, потому что, по какой-то совершенно безумной причине, Джонни ей понравился. Звуки возбужденных голосов отскакивали от ледяных стен, собаки лаяли, дети плакали, немец все орал, а потом даже зарыдал, видимо, по причине разбитого сердца, и тут Джонни стало не по себе. До него дошло, что он заигрывал с девушкой этого парня прямо на глазах у него же, что, по-видимому, ужасно огорчило немца. И Джонни почувствовал, что это неправильно, даже несмотря на то, что перед ним враг.