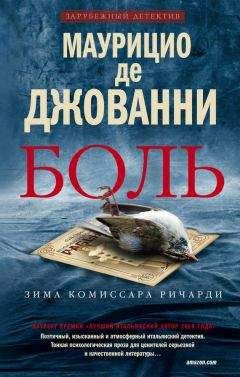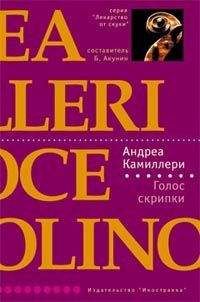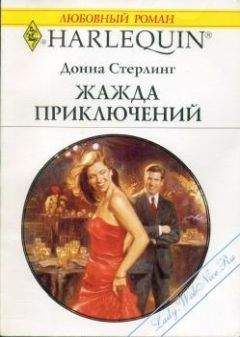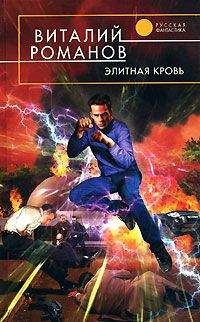Маурицио де Джованни - Кровавый приговор
Он повернулся посмотреть на Розу и Майоне и увидел, что они тоже плачут. Плакали все. Он спросил у Майоне, почему тот плачет, и бригадир ответил, что нехорошо делать больно матерям.
Он снова повернулся к матери и спросил:
— Что я могу сделать?
В зеленых глазах — одержимость, на губах мягкая улыбка.
— Учись. Учись старательно. Читай, получай хорошие отметки. Будь хорошим мальчиком.
Его сердце сжали два чувства сразу — тревога ребенка и беспокойное ожидание взрослого мужчины, которым он стал.
— О чем ты, мама? Чему я должен учиться? Я уже большой! Меня теперь уже не учат!
Со своего ложа смерти Марта Ричарди ди Маломонте протянула сыну изящную руку, словно давая ему поручение.
Ричарди повернулся к Майоне. Тот протягивал ему школьную тетрадь в черной обложке. Эта тетрадь была ему знакома. Ричарди взял ее и снова повернулся к кровати. Его матери там не было. Вместо нее в кровати лежала мертвая старая ростовщица со сломанной шеей. Из ее пустой глазницы медленно вытекала, как слеза, капля черной крови.
На ночной улице свежий ветер, прилетевший из леса Каподимонте, искал, чью бы еще кровь взволновать.
24
По пути из дома Майоне остановился в Инжирном переулке. Разве он мог этого не сделать?
В его логичном и упорядоченном уме мысль о Филомене нашла богатую почву, пустила корни и дала ростки. Из этих ростков выросли листья, цветы и плоды — все с ее печальной улыбкой, с глазами, внутри которых ночь, и с повязкой, похожей на вмятину от колеса на прекрасной древней монете.
Душа Майоне ныла от боли: он с его врожденным чувством справедливости не мог вынести, что такая зверская жестокость останется безнаказанной. Тот, кто посмел изуродовать это совершенство, великолепное творение Бога, должен получить по заслугам — много лет сидеть под замком и размышлять над тем, что сделал.
«Уж не влюбляюсь ли я?» — подумал Майоне. Если бы кто-то посмел задать ему этот вопрос, он пришел бы в ярость. Если полицейский обнаружил преступление, каким бы оно ни было, его долг — выяснить обстоятельства, тщательно их расследовать, раскрыть преступление и арестовать виновника.
Он предпочитал не думать о том, что, имея дело с любым другим из множества преступлений, которые каждый день случались на улицах города, он не провел бы ночь без сна, глядя в потолок, и не ждал бы со страхом и нетерпением первых лучей рассвета. И не вышел бы из дома так рано, еще до того, как в первый ветер вплелась песня женщины, которая шла полоскать белье в фонтане.
Майоне стал спускаться с Конкордии. Он шел чуть быстрее, чем обычно. Никто бы этого не заметил, даже глядя внимательно. Но два печальных глаза, которые смотрели на него через щель в приоткрытых ставнях, видели и то, чего не видно.
Дверь квартиры нижнего этажа в Инжирном переулке не была заперта. Деревянный засов, который на ночь отделял ее от внешнего мира, был уже отодвинут. Вероятно, Гаэтано, сын Филомены, должен уже на рассвете быть на стройке, где работает учеником. Майоне остановился на почтительном расстоянии — в метре от порога. Он снял фуражку, немного помедлил и снова ее надел. В фуражке он бригадир Майоне на службе; без нее он не смог бы сказать, что здесь делает.
Этажом выше кто-то резко захлопнул окно. Майоне взглянул вверх, но никого не увидел. Переулок молча наблюдал и оценивал. Майоне шагнул вперед и вежливо постучал о косяк двери.
Филомена промыла и продезинфицировала рану перед тем, как одеться и приготовить сыну завтрак — хлеб и помидор. Ночью она ни на минуту не закрыла глаза — из-за боли, из-за ожидания, из-за испытаний, которые перенесла и которые еще должна будет перенести. Из-за угрызений совести. Большой неуклюжий силуэт бригадира полиции в дверном проеме вызвал у нее тревогу и в то же время принес спокойствие и чувство безопасности.
— Доброе утро, бригадир. Входите, прошу вас, — произнесла она полушепотом.
— Синьора Филомена, здравствуйте, — сказал Майоне, приложив руку к козырьку фуражки, и шагнул вперед, но сделал только один шаг и не вошел в комнату. — Как вы себя чувствуете? Доктор Модо сказал, что вы можете прийти к нему в любое время, если вам снова понадобятся лечебные процедуры.
— Спасибо, бригадир, но этого не надо. Я сумею справиться сама. Знаете, сколько ран было у моего сына, когда он маленьким играл в этом переулке? Все матери нашего квартала немного медсестры.
Майоне снял фуражку и стал вертеть ее в руках. В голосе Филомены было что-то такое, из-за чего он все время чувствовал себя виноватым. Как будто в том, что у нее на лице эта рана, есть немного и его вины.
— Синьора, я знаю, что вам будет неприятно говорить на эту тему. Но у меня особая профессия: если я видел, если я знаю, что кто-то сделал такое с вами, мой долг, я уже говорил вам, расследовать это и поймать виновного. Я полагаю, что вы боитесь сказать, потому что… В общем, что кто-то сделает что-нибудь с вами или вашим сыном. Я… Не беспокойтесь, я не предприму ничего, что может быть опасно для вас. Но если кто-то совершает зло, он должен за это расплатиться.
Слушая это, Филомена глядела прямо в глаза бригадиру, а он, наоборот, не знал, куда отвести взгляд. Это утро, третье утро весны, было холодным, но Майоне обливался потом, словно поднимался по склону вулкана среди лавы.
— Благодарю вас, бригадир. Я вам уже говорила и повторяю снова, что не хочу ни на кого подавать заявление. Иногда бывают… обстоятельства, которые выглядят не такими, какие они на самом деле. Это я могу вам сказать и это вам говорю.
— Но если… если вы… Я должен допросить вас, если у вас есть… В общем, если вы поддерживаете близкие отношения с каким-нибудь мужчиной. Ревность иногда сводит людей с ума.
Наступила тишина — тяжелая и давящая, как могильная земля. За дверью, в далеком мире, пел женский голос:
Скажите ему, что он — майская роза,
Что я потеряла сон,
Что всегда думаю о нем,
Что он моя жизнь.
— Никого нет, бригадир. С того дня, как умер мой муж, я не знала ни одного мужчину. А это было два года назад.
Ее голос! Уверенный и суровый. И далекий, словно доносится со дна моря. Майоне вздрогнул: он почувствовал себя так, словно выругался посреди собора в тот момент, когда епископ раздает Святое причастие.
— Простите, синьора. Я вовсе не хотел, я никогда не думал поставить под сомнение вашу добродетель. В таком случае, нет ли кого-то, кто вам угрожает? Скажите мне об этом, направьте меня на верный путь.
— Бригадир, вы опаздываете на службу, а я на работу. Я уверена, что у вас есть дела более важные, чем мое. Не волнуйтесь: я совершенно спокойна. Со мной ничего не может случиться. Больше ничего.
Майоне в полумраке отыскал взглядом глаза Филомены и всмотрелся в них. В ее взгляде он прочел презрение и убежденность, которая казалась ему нелепой. Она действительно была уверена в том, что говорила. Бригадир вздохнул, надел фуражку и сделал шаг назад.
— Хорошо, пусть пока будет так. Если вы этого хотите… Но я стану возвращаться до тех пор, пока не буду знать точно, что ни вам, ни вашему сыну ничего не угрожает. Если вспомните что-нибудь, пришлите кого-нибудь за мной, отсюда до управления полиции всего пять минут ходьбы.
Он повернулся и едва не столкнулся с той женщиной, чей крик привлек его внимание два дня назад и которая с таким презрением отозвалась о Филомене. На этот раз она держала в руке миску и хмуро смотрела на бригадира.
— Донна Филоме, это я, Винченца. Можно войти? Я принесла вам чашку бульона. Вам нужно что-нибудь?
Иногда кровь изменяет людей, подумал Майоне. Он кивком попрощался с женщинами и ушел.
Из соседней квартиры нижнего этажа только что вышел мужчина, у которого голова раскалывалась, словно после выпивки. Он пил вчера вечером и позавчера вечером тоже. Плохое вино, табачный дым, грубые веселые песни. Все это, чтобы найти в себе силы уснуть. Чтобы спать без «гадости», после которой он утром чувствовал себя так же, как сейчас.
«А что мне делать — бедняге, который остался без жены? — думал он, спеша на стройку, где работал. — Что мне делать — не жить больше? Или искать себе другую жену?» А кто пойдет за такого жениха, как он, — с дочерью и без гроша?
Сальваторе Финицио, отличный каменщик, вдовец. Мужчина, у которого мало возможностей повеселиться и мало еды. Который должен заботиться о своей дочери Ритучче, должен ее содержать. И если он иногда от вина и усталости забывает о своей покойной Ракеле, разве он должен винить себя за это? Господь, если он наш вечный небесный отец, все понимает. И простит его. Пресвятая Дева, как же болит голова!
25
Комиссару Ричарди никак не удавалось выбросить из головы свой сон. Он снова слышал в своем сознании голос матери, который наяву совершенно не помнил. Этот властный голос приказал ему быть хорошим и учиться. Учиться чему?