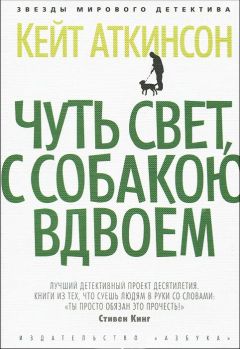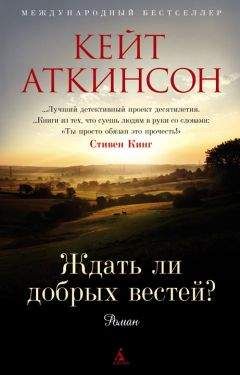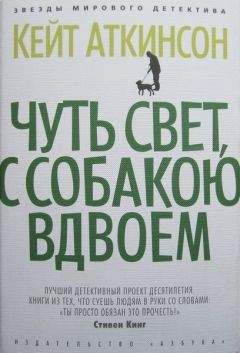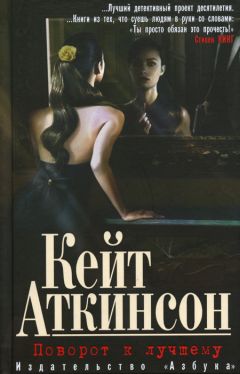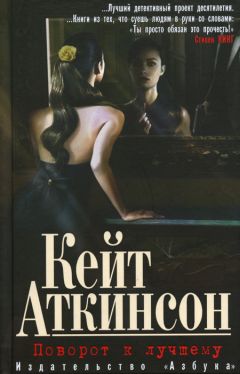Кейт Аткинсон - Преступления прошлого
Вероятно, для крыльца есть особое церковное слово, но, даже если и так, она его не знала, зато знала разные термины для обозначения скелета церкви, ее позвоночника и ребер, звучавшие как средневековая поэзия: апсида, алтарь, неф, трансепт, хоры, ризница, мизерикорд;[36] правда, что именно они называют, она бы вряд ли вспомнила, кроме мизерикорда, — знаете, есть такие слова, которые, раз узнав, запоминаешь на всю жизнь.
Мизерикорды в церкви Святой Анны были старинные, дубовые, но не из того же дуба, что дверь, серая и выцветшая, как старый плавник, долго носившийся по морским волнам, — мизерикорды были цвета торфа или чайной заварки. Приглядевшись, можно было различить вырезанные на них странные языческие создания, больше похожие на леших, чем на людей, полускрытые деревьями и листьями, — вот акант, а вот вроде пальма. Должно быть, это пресловутый зеленый человек,[37] точнее, зеленые люди, они расположились — и все разные — на боковой планке каждого сиденья. Она не знала, что в Йоркшире тоже есть зеленые человечки. Как и там, где она жила прежде. В другой жизни, которую иногда почти и не помнила. А иногда помнила слишком хорошо.
Ей нравилось слово «мизерикорд», оно вызывало ассоциации с чем-то жалким, но означало «милосердный», от латинского cor — сердце, от которого произошли также core — сердцевина и cordial — сердечный, но не cardiac — сердечный в физиологическом смысле, которое пришло через латынь от греческого kardia — сердце (хотя когда-то они, несомненно, были родственными). В школе Каролина не изучат ни латыни, ни греческого, но потом, когда у нее образовалось уйма свободного времени, проштудировала основы античных языков, чтобы понимать хотя бы этимологию слов, уметь проследить их значения. Если поиграть буквами, в ее имени тоже было cor. Каро. Кора. Кор. Словно карканье воронов, что питаются мертвечиной. Если встать на колени на жесткий пол, что в этой церкви непременно означаю опуститься на холодную надгробную плиту (покойники, скорее всего, только радовались компании), и заглянуть в глаза зеленому человеку, то можно увидеть в них проблески первобытного безумия и…
— С вами все в порядке?
— Да, — ответила Каролина. — Думаю, да.
Мужчина предложил ей руку, потому что колени у нее затекли от стояния на полу, на мертвецах. Рука у него была мягкая и для положительно живого мужчины слишком холодная.
— Меня зовут Джон Бёртон, — произнес он (сердечно).
— Вы или очень молоды, — сказала Каролина, — или это признак того, что ко мне старость подступает. Ну, когда викарии и полицейские начинают казаться юнцами.
И викарий (Джон Бёртон) рассмеялся:
— Моя мать всегда говорит, что беспокоиться нужно, когда епископы начинают казаться молодыми.
Интересно, каково это — вписаться в мир, где матушка шутит про епископов и людей называют «Каро», подумала Каролина.
— Вы, должно быть, новый викарий.
На нем была сутана (или как там это называется?), так что не сказать чтобы Каролина попала пальцем в небо. Он оглядел свое облачение и уныло усмехнулся:
— Застукали меня на месте преступления, мэм.
Прозвучало это довольно забавно, потому что голос у него был этакий утомленный и аристократический. Джонатан сохранил (или, наоборот, развил) в голосе некоторую грубость, топорность, что добавляло ему серьезности и веса. «Типичный Хитклиф», — саркастически заметила ее подруга Джиллиан, потому что, ясное дело, он был богат и получил (очень) дорогое образование, а его мать говорила как сама королева.
— Я тоже знаю, кто вы, — сказал Джон Бёртон.
— Да что вы? — сказала Каролина и подумала, уж не флиртуют ли они, в самом деле.
А Джон Бёртон — преподобный Джон Бёртон — ответил:
— Конечно знаю, вы директор начальной школы.
И Каролина про себя чертыхнулась, потому что предпочитала, чтобы никто не знал, кто она такая. Никто.
Новое замужество не было частью ее плана. План заключался в том, чтобы похоронить себя в каком-нибудь городишке и творить добрые дела, как какая-нибудь квакерша восемнадцатого века или благородная дама времен королевы Виктории, одержимая филантропией. Она даже подумывала уехать за границу — в Индию или в Африку, — подобно миссионерам, работать на проекте по борьбе с неграмотностью среди женщин или отверженных, потому что она понимала, что значит быть отверженной.
Она уехала на север, думая, что север окажется грубым и индустриальным, хотя и сознавала, что эта картина у нее в голове — исключительно из романов; и да, жизнь там была грубая, постиндустриальная и куда более трудная, чем она себе представляла, — ничего общего с «Севером и Югом» или «В субботу вечером, в воскресенье утром».[38] Первый, испытательный год она провела в Ливерпуле, потом пару лет работала в Олдеме и наконец обосновалась в Манчестере. Она была «учителем-ангелом», по сути, а не по должности ее профессией было спасать детей, выброшенных обществом, и она с курьерской скоростью перемещалась из одной городской геенны в другую; она обречена была рано или поздно стать директором какой-нибудь пропащей школы и повести ее вперед сквозь шторм и непогоду, как капитан — тонущий корабль. И это было хорошо и правильно, потому что она искупала свою вину, просто вместо того, чтобы уйти в монастырь ордена кающихся грешниц (а эта идея приходила ей в голову), она стала учительницей, что наверняка приносит больше пользы, чем затворничество и молитвы каждые четыре часа, хотя, кто знает, возможно, именно благодаря монахиням, денно и нощно возносящим молитвы, нас минует глобальная катастрофа — падение метеорита или, например, авария ядерного реактора.
Итак, ее жизнь шла согласно намеченному плану. Она жила в маленькой квартирке: одна спальня, белые стены, ароматические свечи, ничего лишнего (очень по-анахоретски, если на то пошло) — и общалась только с другими учителями, и то по минимуму. Компания состояла из разведенных дам среднего возраста, иногда они ходили в кино или выпивали по бокалу вина в каком-нибудь тихом баре. Разговоры, как правило, сводились к жалобам на нехватку мужиков: «все стоящие либо женаты, либо геи», и, когда они один раз принялись забрасывать удочки насчет ее личной жизни, она ответила: «Мне хватило одного неудачного брака» — тоном, предполагавшим, что этот брак был настолько неудачен, что и говорить не хочется. Она сказала, что предпочитает пока не заводить романов, умолчав, правда, о том, сколько уже тянется это «пока». Двадцать два года прошло с тех пор, как она в последний раз была с мужчиной! Разведенные дамы среднего возраста со стульев бы попадали. Кстати, анахорету ведь полагается соблюдать целибат? (Или анахоретке?) Надо бы спросить у преподобного Бёртона («Бога ради, зовите меня Джон», — рассмеялся он). Конечно, все эти годы она занималась сексом с женщинами, так что это не совсем целибат.
Смешной он малый, этот Джон Бёртон. Песочно-рыжие волосы, маленький, сложен изящно — ничего общего с Джонатаном. И очень славный, как-то сразу видно, что хороший человек. Он тоже побывал кающимся грешником в городском гетто, и, видимо, это сломало его. Теперь он с головой закопался в деревню и шел на поправку. С такими, как Джонатан, нервных срывов не случается. У него были безукоризненные манеры (спасибо матушке, а также Эмплфорт-колледжу[39] хотя Уиверы отнюдь не были католиками) — этим он ее отчасти и привлек. А еще тем, что манеры манерами, но на деле он был суров и несгибаем. Как кремень.
В августе Джиллиан, подруга по педагогическому колледжу, пригласила ее погостить на ферме у своих родителей на длинные, по случаю банковских каникул,[40] выходные. В колледже они сошлись, потому что были старше большинства своих сокурсниц. Близкими подругами они не стали — хотя Джиллиан питала на этот счет некие иллюзии, — но с ней было легко, она была забавная, циничная, но не зануда, поэтому после долгих и упорных дебатов с самой собой (проводившихся по любому вопросу) Каролина все-таки приняла приглашение. От выходных в деревне вреда не будет, решила она.
Все прошло чудесно, лучше не бывает. У Джиллиан оказались очень славные родители, ее мать все время их чем-нибудь подкармливала, а они и не возражали. Как замечательно, говорила мать Джиллиан, что они такие независимые девочки, и работа у них хорошая, и кредит на жилье, и свобода, — но на самом деле она хотела сказать, что Джиллиан, их единственной дочери, уже порядком за тридцать и не пора ли, собственно, подарить родителям внука?
В чистой и уютной гостевой комнате Каролина выспалась лучше, чем за многие годы, возможно, потому, что вокруг было так мирно. Лишь блеяли овцы, горланили петухи и птицы пели не умолкая, да изредка бурчал трактор. Пахло свежестью, и она вдруг поняла, как давно не дышала по-настоящему чистым воздухом. Окно спальни выходило на простор холмистых зеленых равнин, сшитых и окантованных серыми каменными стенами, бегущих вдаль, насколько хватало глаз, за горизонт, и она подумала, что, пожалуй, такого потрясающего вида из окна у нее никогда еще не бывало (зато мерзких было хоть отбавляй). Так что сперва она влюбилась в местный пейзаж, а потом уже — в Джонатана, который в некотором смысле являлся продолжением и воплощением этого пейзажа.