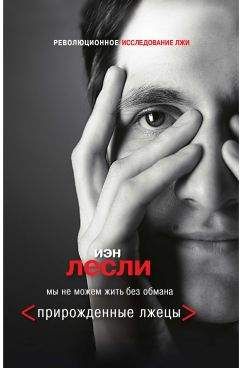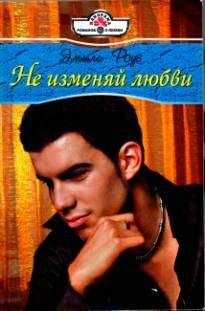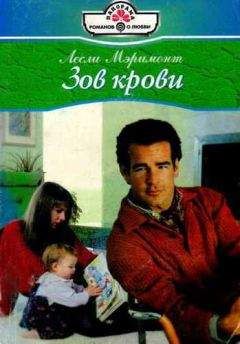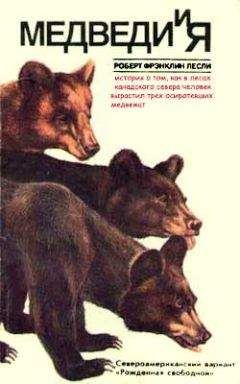Эмили Локхарт - Виновата ложь
Отдаю: «Заколдованную жизнь» Дианы Уинн Джонс.
Это одна из историй серии «Крестоманси», которую мамочка читала мне с Гатом, когда нам было восемь. После этого я перечитывала ее несколько раз, но сомневаюсь, что это делал Гат.
Я открываю книгу и пишу на титульной странице: «Гату, со всем-всем. Кади».
Следующим утром я направляюсь в Каддлдаун, переступая через грязные чашки и диски. Стучу в дверь спальни Гата.
Нет ответа.
Я снова стучу, затем открываю ее.
Когда-то это была комната Тафта. В ней полно плюшевых медведей и моделей кораблей, плюс стопки книг Гата, пустые пачки из-под чипсов и орешки кешью, которые трещат под ногами. Начатые бутылки сока и лимонада, диски, коробка из-под «Эрудита», большинство букв рассыпанны по полу Тут так же грязно, как во всем доме, если не хуже.
В любом случае его здесь нет. Должно быть, Гат на пляже.
Я оставляю книгу на его подушке.
49
В ту ночь мы с Гатом оказались вдвоем на крыше Каддлдауна. Миррен плохо себя чувствовала, и Джонни отвел ее вниз, выпить чаю.
Тишину прерывала музыка и голоса из Нового Клермонта, где тетушки и дедушка ели черничный пирог и пили портвейн. Малышня смотрела фильм в гостиной.
Гат прогуливается по наклонной части крыши, вниз до сточной канавы и обратно. Это кажется опасным, ведь упасть так легко — но он бесстрашен.
Самое время поговорить с ним.
Самое время перестать делать вид, что между нами все нормально.
Я ищу нужные слова, обдумываю, как лучше начать разговор.
Внезапно он в три прыжка поднимается ко мне.
— Ты очень, очень красивая, Кади.
— Это все лунный свет. В его сиянии все девушки кажутся красивыми.
— Я всегда и навеки считаю тебя красивой. — Его силуэт вырисовывается на фоне луны. — У тебя есть парень в Вермонте?
Конечно же нет. У меня никогда не было парня, кроме него.
— Моего парня зовут Перкосет. Мы очень близки. Мы даже вместе ездили в Европу прошлым летом.
— Господи! — Гат раздражен. Он встает и спускается к краю крыши.
— Я шучу.
Он стоит спиной ко мне.
— Ты просила, чтобы мы тебя не жалели…
— Да.
— …но затем ты говоришь нечто подобное: «Моего парня зовут Перкосет» или «Я разглядывала основание голубого итальянского унитаза». И всем становится ясно, что ты хочешь, чтобы тебя жалели. И мы будем, я буду, жалеть тебя, но ты понятия не имеешь, как тебе повезло.
Я краснею.
Он прав.
Я хочу, чтобы люди меня жалели. Хочу.
А потом не хочу.
Хочу.
А потом не хочу.
— Прости, — говорю я.
— Гаррис отправил тебя в Европу на восемь недель. Думаешь, он когда-нибудь отправит туда Джонни или Миррен? Нет. Или меня, ни в коем случае. Просто задумайся, прежде чем будешь жаловаться на вещи, о которых другие люди только мечтают.
Я передергиваюсь.
— Дедушка отправил меня в Европу?
— Да ладно тебе, — резко говорит Гат. — Ты правда думала, что поездку оплатил твой отец?
Я мгновенно понимаю, что он говорит правду.
Конечно, папа не платил за поездку. Он просто не смог бы. Профессора колледжа не летают первым классом и не живут в пятизвездочных отелях.
Я так привыкла к лету на Бичвуде, к забитым продуктами кладовым и моторным лодкам, а также прислуге, незаметно жарящей стейки и стирающей простыни, что даже не задумалась, откуда могли взяться деньги.
Дедушка отправил меня в Европу. Зачем?
Почему со мной не поехала мамочка, если поездка — подарок от дедушки? И почему папа вообще принял его деньги?
— Впереди тебя ждет жизнь с миллионом возможностей, — говорит Гат. — Меня… меня просто раздражает, когда ты требуешь сострадания, вот и все.
Гат, мой Гат.
Он прав.
Но он не понимает.
— Я знаю, что меня никто не бьет, — говорю я, внезапно принимая оборонительную позицию. — Знаю, что у меня куча денег и прекрасное образование. И еда на столе. Я не умираю от рака. Многие люди живут гораздо хуже. И знаю, что мне повезло поехать в Европу. Мне не стоит жаловаться и быть неблагодарной.
— Тогда ладно.
— Но и ты послушай. Ты понятия не имеешь, каково это, терпеть внезапные головные боли. Ни малейшего. Это очень больно, — говорю я… и понимаю, что по моему лицу катятся слезы, хоть я не всхлипываю. — Иногда это очень мешает жить. Множество раз я хотела умереть, правда, просто чтобы остановить боль.
— Нет! — яростно кричит он. — Ты не хочешь умереть! Не говори так.
— Я просто хочу, чтобы боль прекратилась. В те дни, когда таблетки не помогают. Я хочу, чтобы это закончилось, и сделала бы все — серьезно, все что угодно, — если бы знала наверняка, как ее прекратить.
Следует тишина. Он спускается к краю крыши, отворачиваясь от меня.
— И что ты тогда делаешь? В такие дни?
— Ничего. Просто лежу и жду, напоминая себе вновь и вновь, что боль не будет длиться вечно. Что наступит новый день, а потом еще один. Что однажды я встану, съем завтрак и буду хорошо себя чувствовать.
— Новый день.
— Да.
Он поворачивается и вдруг в каких-нибудь два шага пересекает крышу. Его руки оказываются вокруг меня, и мы вцепляемся друг в друга.
Гат слегка дрожит, целует меня в шею своими холодными губами. Так мы и сидим, в объятиях друг друга, с минуту или две.
И кажется, будто вселенная преображается.
Я знаю, что вся злость из нас испарилась.
Гат целует меня в губы и гладит мою щеку.
Я люблю его.
Всегда любила.
Мы еще очень, очень долго сидим на крыше. Вечность.
50
Миррен все чаще бывает плохо. Она поздно встает, красит ногти, лежит на солнце и рассматривает картинки африканских пейзажей в альбоме на кофейном столике. Она не хочет плавать. Не хочет кататься. Не хочет играть в теннис или ездить в Эдгартаун.
Я приношу ей драже из Нового Клермонта. Миррен любит драже.
Сегодня мы лежим на маленьком пляже. Читаем журналы, которые я стянула у близняшек, и грызем морковку. Миррен надела наушники. Она продолжает слушать одну и ту же песню на моем телефоне, снова и снова.
Наша молодость потрачена впустую,
Не повторяйте моей ошибки.
Запомни мое имя,
Потому что мы войдем в историю.
На-на-на-на, на-на-на
Я тычу в нее морковкой.
— Что?
— Прекрати петь, или я за себя не ручаюсь.
Миррен поворачивается ко мне с серьезным лицом. Вытаскивает наушники.
— Можно я тебе кое-что скажу, Кади?
— Конечно.
— О тебе и Гате. Я слышала, как вы шли вниз прошлой ночью.
— И что?
— Я думаю, ты должна оставить его в покое.
— Что?!
— Это плохо закончится и все испортит.
— Я люблю его. Ты же знаешь, я всегда его любила.
— Ты только все усложняешь. Парню и так нелегко. Ты причинишь ему боль.
— Неправда. Скорее он — мне.
— Ну, такое тоже возможно. Ваши отношения к хорошему не приведут.
— Разве ты не видишь, пусть лучше уж он причинит мне боль, чем я соглашусь оставить его, — говорю я, садясь. — Я готова еще и еще раз рисковать, что мы расстанемся, чем вернуться в коробку, где жила эти два года. Я жила в крошечной коробке, Миррен. Я и мамочка. Я и таблетки. Я и моя боль. Я больше не хочу так жить.
В воздухе повисла тишина.
— У меня никогда не было парня, — выпаливает Миррен.
Я смотрю ей в глаза. В них стоят слезы.
— А как же Дрейк Логгерхед? Как же желтые розы и секс?
Она опускает взгляд.
— Я солгала.
— Почему?
— Тебе знакомо чувство, когда приезжаешь на Бичвуд, будто попадаешь в другой мир? И не должна быть той же, какой бываешь дома. Ты можешь быть кем-то получше.
Я киваю.
— В день твоего приезда я наблюдала за Гатом. Он смотрел на тебя так, будто ты была ярчайшей звездой в галактике.
— Правда?
— Я так хочу, чтобы кто-то смотрел на меня так же, Кади! Очень хочу. Сама того не заметив, я солгала. Прости.
Я не знаю, что сказать. Делаю глубокий вдох.
— Не вздыхай, слышишь! — кричит она. — Фигня! Фигня, если у меня никогда не будет парня! Фигня, если никто никогда меня не полюбит, ясно? Вполне терпимо.
Голос мамы доносится со стороны Нового Клермонта:
— Каденс! Ты меня слышишь?
— Что ты хочешь?! — кричу я в ответ.
— У повара сегодня выходной. Я готовлю обед. Помоги мне нарезать помидоры!
— Минуту-у! — Я вздыхаю и смотрю на Миррен. — Мне нужно идти.
Она не отвечает. Я застегиваю свою кенгурушку и плетусь наверх к Новому Клермонту.
На кухне мама вручает мне специальный нож для нарезки помидоров и начинает болтать.
Ай-ай-ай, ты постоянно на маленьком пляже.
Ой-ой-ой, ты должна играть с малышней.
Дедушка не будет жить вечно.
Ты знаешь, что обгорела?