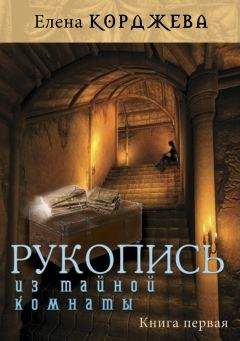Елена Корджева - Рукопись из тайной комнаты. Книга вторая
Ждать пришлось недолго, длинный, а с ним ещё двое появились из дверей и, пройдя по двору, вышли на улицу. У всех троих на плече висели винтовки. Мужчины шли не торопясь, что-то весело обсуждая между собой. На Густу они не обратили ни малейшего внимания, так сильно их занимал разговор.
Подождав, пока троица скроется за углом, Густа направилась домой. Всё было ясно. Прежняя власть грозилась отнять землю и скот, и даже выслала в Сибирь Юриса с семьёй, да и не только Юриса. Власть была жестокой. Но надежда, что новая власть будет лучше, не оправдалась – эти немцы, в отличие от герра Шварца, дружественными точно не были. И то, что у местной власти в почёте бандиты, которым разрешено вооружёнными ходить по улицам, ситуацию не улучшало.
15
Ночью Густа никак не могла уснуть.
Казалось бы, наработавшись за день, только-то и остаётся, что голову до подушки донести. Но с тех пор, как её Эмилия стала Эмилией Неймане и переехала в комнату Марты, сон приходил трудно. С трудом уснув, она вдруг подхватилась, разбуженная неясным звуком, похожим на треск сбившегося с волны радио. Сердце почему-то забухало, как большой барабан в оркестре, разгоняя по телу тревогу. О том, чтобы вновь уснуть, не могло быть и речи. В конце концов непонятная тревога выгнала Густу из постели.
Тихонько, чтобы не разбудить домашних, выскользнув из дома, она вышла во двор и прислушалась.
Из хлева доносились ночные звуки спящей живности, шумно дышала корова, возились и шуршали во сне куры и кролики, кто-то там даже подхрапывал. Шум мешал услышать треск, разбудивший её. Но что-то продолжало звучать где-то на краю сознания и требовало внимания.
Густа вышла за ворота и пошла, прислушиваясь, по тропинке в сторону леса, пока ещё молчаливого, не озвученного гомоном птиц.
И вдруг, подхватив юбку, она побежала что есть духу, распознав в ночной тишине то, чего там никак не должно было быть. Она не смогла бы объяснить словами, что это было, но сердце стучало уже едва ли не у горла, отбивая ему одному понятный, но очень чёткий ритм:
– Ско-рей! Ско-рей!
Лес, с детства знакомый до мельчайшего кустика, Густу не пугал. Она бы не заблудилась и в кромешной тьме, не то, что в сумерках. Легко пробираясь через подлесок, она почему-то двигалась не к усадьбе, а в глубину, туда, где большой черничник. У старой берёзы остановилась передохнуть, опершись рукой на ствол, где от шершавых краёв отслаивалась колечками тоненькая гладкая береста. Когда барабан в ушах, наконец, замолк, Густа услышала странный, незнакомый доселе звук. На всякий случай теперь она двигалась вперёд тихонько.
В просветах между деревьями вдруг открылось жёлтое пространство. Жёлтого там не должно было быть, черничник всегда рос, пробиваясь через бурый слой старой хвои и перегнивших листьев. Но это жёлто-бело-бурое пространство, как магнитом притягивало Густу. Очень осторожно она подобралась поближе.
То, что открылось её глазам, освещённое ранней-ранней рассветной зорькой, было столь невозможным, что разум отказывался верить. Бывший черничник был полностью перекопан. Зачем-то разрытая – и глубоко разрытая – земля теперь вновь была насыпана обратно большим жёлтым пространством, шуршащим, шевелящимся и издающим резкий сладковатый запах крови. Что-то страшное произошло здесь и было укрыто от посторонних глаз этим жёлтым песчаником, с шелестом осыпающимся под собственной тяжестью.
Густа стояла, укрывшись в кустарнике, боясь выйти в это дышащее смертью пространство. Вдруг она почувствовала, что она здесь не одна. С испугу закрыв рот рукой, чтобы не закричать, она стала вглядываться в эту жёлтую насыпь. Но Густа напрасно смотрела, звук, выдававший чьё-то присутствие, раздался из кустарника совсем неподалёку. «Зверь», – мелькнула мысль, а взгляд метнулся вверх, высматривая, можно ли спасаясь влезть на дерево. Запах крови был так силен, что хищники не заставят себя ждать, а встречаться ни с волком, ни с рысью Густе точно не хотелось. Но нет, это был не зверь. Во всяком случае, нога, торчащая из куста, точно была человеческой. Точнее – детской. В кустах прятался ребёнок. Он, как видно, тоже услышал её присутствие и попытался втянуть ногу поглубже, но места ему явно не хватало. Под раздвинутыми ветками обнаружился мальчик лет десяти, свернувшийся в комок, из которого на Густу смотрели огромные испуганные глазищи.
Больше здесь пока никого не было.
Присев рядом на корточки, Густа протянула руку к ребёнку, в ужасе зажмурившемуся. После долгих уговоров, после слез, после отрывочного, перемежающегося рыданиями рассказа, стало ясно, что этой ночью здесь произошло нечто столь ужасное, что этому не было даже названия во всех прочитанных Густой книгах. Здесь расстреливали людей. Не военных – просто самых обычных людей, мужчин, женщин, детей. Целые семьи лежали под этой жёлтой насыпью.
Почти рассвело, когда Густа привела мальчика домой.
Как она ни старалась быть тихой, но папа проснулся.
И пока Густа растапливала плиту, мужчина и мальчик сидели друг против друга за столом и разговаривали.
Мальчик был Гершель, Гершель Бергманис. И папа и Густа знали семью портного Шолома Бергманиса, жившую на Театральной. Там был магазинчик, где вечно беременная Лия Бергмане торговала шляпками и галантереей, а за магазином была мастерская, в которую знала дорогу каждая уважающая себя модница. Даже фрау Шварц заказывала там свои платья. По двору вечно носилось семь-восемь детей разного возраста, которым Лия регулярно и безрезультатно приказывала не вопить, как оглашённым. Теперь и Шолом, и Лия, и все остальные дети лежали в лесу под песчаной насыпью, как, впрочем, и остальные евреи Кандавы.
– А как тебе удалось убежать? – папа внимательно смотрел на мальчика.
– Не знаю. Нас поставили, и тот мужчина с ружьём вдруг отвернулся. А я побежал.
– Понятно…
Папа молчал и о чем-то сосредоточенно думал. Также молча выпил он и первую за день чашку кофе.
Мальчик, обхватив двумя руками свою чашку, тоже молчал.
Дом просыпался. Мама, поглядев на мужа и Густу, застывшую изваянием у печки, не сказала ни слова и потихоньку утащила в хлев открывшую было рот Марту.
Наконец решение было принято:
– Умой его и уложи спать, – папа указал на кровать Кристапа, – и сама поспи. А я схожу в город, узнаю, как и что. Да, из дома – не выходить! – это относилось к послушно закивавшему мальчику.
Вечером за ужином было принято окончательное решение: Гершель остаётся в семье.
– Ни одного еврея в городе больше нет. Нельзя, чтобы кто-то догадался, что ты – еврей. Теперь тебя будут звать не Гершель, теперь ты – Гиртс, понял?
Мальчик согласно кивал. Чёрные волосы кучерявились на макушке.
– И я лично буду тебе каждую неделю брить голову. Будешь ходить бритый. Вия, найди-ка, может какая от Кристапа кепка осталась.
Так в доме появился Гиртс, Для посторонних это был сын родственников, сосланных в Сибирь. А что в кепке – на нервной почве волосы выпадают.
16
С виду вроде бы всё было хорошо.
К осени в хлеву кроме коровы стояли ещё две тёлочки. Урожай был убран.
Эмилия вовсю бегала и что-то лопотала на своём детском языке. Мамой она теперь называла только Марту.
Гиртс оказался смышлёным парнишкой и работал наравне с взрослыми. Единственное, что обескураживало папу, так это то, что руки у мальчика оказались совершенно не заточены под топор. Зато смастерить, ловко управляясь с ножницами и иголкой, затейливые прихватки для кухни, а то и рубашонку для подраставшей малышки он умудрялся мгновенно. Папа только крякал, глядя, как мальчонка возится с женским инструментом.
После дня Микеля, по традиции отмечавшего конец уборки урожая, Густа снова принялась читать вслух для всей семьи.
Вот в такое вечернее время и вернулся Петерис.
В сенях застучали чужие сапоги, и вся семья с тревогой оглянулась на дверь. Марта на всякий случай тут же взяла Эмилию на руки, а Гиртс спрятался за Густу. Папа встал, чтобы встретить незваного гостя, который как раз входил в комнату. С темноты он щурился, привыкая к свету керосинки, и пахло от него потом и усталостью.
– Ну что, похоже, не рады мне?
Марта, узнав голос, охнула и, прижимая Эмилию к груди, вскочила с лавки:
– Петерис! Вернулся! – и побежала к нему.
Сделав шаг навстречу, он вместо объятия попридержал её рукой за плечо, вглядываясь в освещённое лампой лицо:
– Ждала…
И только потом, посмотрев на Эмилию:
– Дочка? Моя?
Потом были слезы и объятия. Плакала Марта, ревела, глядя на неё, малышка, фартуком утирала слезу мама, и даже папа подозрительно шмыгал носом. Ни у кого не хватило духу сказать правду. В итоге Эмилия окончательно стала дочкой Марты и Петериса. Не плакала только Густа. Она стояла у окна, глядя в ноябрьскую темноту невидящим взглядом.
За два года отсутствия Петерису тоже выпало немало. Он умудрился попасть не только в Филадельфию. Там пришлось поработать докером, чтобы выжить. А потом его взяли на судно, отплывающее в Англию. Как оттуда он добирался до Франции и как умудрился пройти пешком всю разорённую войной Европу – это была отдельная история, которую Петерис не спешил рассказывать. Густе же он сразу сказал: