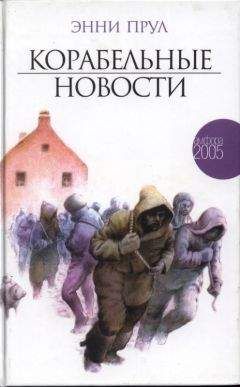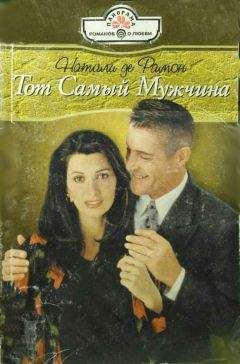Елена Костюкович - Цвингер
— …Кравчука, Кучмы и попа в епитрахили.
— В епитрахили. Архив был отдан, как вы уже слышали, вашей бабушке.
Да. Отдан бабушке. Неужто этот Гранников не понял, в каком перекособоченном мире Лиора жила?
— Знаешь, Викуш, мне стало легче теперь общаться с мамой.
— С чьей?
— Ну не с твоей же. Твоя мама, вероятно, это Люка, да? А я и не знала, что она семейная. А Люка, что! Никогда не навестит. Видимо, поважнее нашла себе компанию. А вот с моей мамой чудо случилось. С самого молодого возраста она была ведь слабослышащая. И вдруг, так странно, теперь стала хорошо слышать. Что я ни говорю, все слышит. Отвечает быстро, с ходу. А как она сумела излечиться — ума не приложу. Я спросила у нее рецепт гоменташа. Теперь я смогу его приготовить. С молодости думала научиться, но никто из моего окружения рецепта не знал. А мама раньше не понимала, о чем я спрашиваю. А сейчас вдруг как закричит: а, гоменташ! То есть она меня услышала. И, говорит, ее там научили. И она все запомнила. Имей в виду, Лерочка, она мне говорит, дрожжи следует брать не сухие, а прессованные. Вот и вся тайна. Кстати, Вика, она мне еще порекомендовала запастись колокольчиком на случай, если я заболею и сломаю себе что-нибудь, можно всегда позвонить и подозвать. У нее-то колокольчик был.
— Он у нас и сохранялся на Васильковской. Я его помню.
— Вот найдите, и чтобы вы сюда мне его поставили. На случай похорон, не дай бог, пусть это будет не скоро, но ведь придется же когда-нибудь мне похоронами заняться, я же не вечная, так чтобы не кричать. Пусть будет под рукой колокольчик. Позвонить, распорядиться, подозвать и сказать, пусть кто что делает…
А вот имей он возможность (и желание, конечно, — и то и другое нереально) жить в Киеве бок о бок с Лерой, у нее бы сознание не спутывалось так. Она ведь одного лишь чаяла: не в одиночестве, не в каземате-цвингере угасать, а жить с людьми, участвовать в их быту и разговорах, быть рядом с любимым существом — с ним, с Викой, который представлял собой продолжение и повторение ее утраченных мужчин: мужа, брата, отца. Лера в последние годы укладывала перед собой рядочками книги, с переплетов глядели лица знаменитых артистов или, наоборот, писателей, когда-то с нею шутивших, флиртовавших или просто восхищавшихся ею. То это Лёдик там лежал, то Кларк Гейбл, то Аксенов, то артист Тихонов, то Евтушенко внезапно. «Не понравлюсь я ему, я старая теперь», — понуро бормотала, вглядываясь в фотографию, Лерочка.
Будь Виктор в ее старости с ней рядом, кто знает… Может, она бы продырявила грезовый горизонт и вышла бы обратно в «здесь и сейчас» из перенаселенного одиночества, из царства воспоминаний о воспоминаниях.
А плохо ли бы Виктору жилось, застрянь он в той параллельной жизни, в Ракитках? Если бы остался тогда в Киеве в восьмидесятом, на Олимпиаду не поехал, Антонию не повстречал? Представим этот вариант, в порядке бреда. Ну, вернул бы он себе прежнее гражданство, бывший характер, советскую внешность. Может, и жил бы неплохо, наслаждался бы тоже, хоть и по-другому. Таял бы от накрашенных дев в распущенных волосах и лапше, в лакированных сапогах-чулках, в туфлях на платформе и в карикатурно коротких юбках. Они, поглядывая, напевали бы песни из индийского кино. Со значением спрашивали бы о Сан-Ремо, Тото Кутуньо, Аль Бано, Ромине Пауэр. С гордостью включали бы отечественные кассетники фирмы «Электроника». Бросали бы ему лукавый вызов: кто назовет больше имен групп: «Смоки», «Спейс», «Куин», «Кисс», «Дип Перпл», «Пинк Флойд»?
Но нет, той сладкой черемуховой дури он не вкусил. Свой русский год в преддверии встречи с Антонией Виктор прожил полным швейцарцем. Студентки его не о Кутуньо спрашивали, а спрашивали о Мишеле Фуко.
Лерочка… Буля… О полученном плетнёвском архиве Вике не сказала ни слова. Ну ясно, в тот же день все вытерлось из памяти. В две тысячи третьем году она все ночи по лесу гуляла, цыган встречала, требовала, чтобы ей привели ее внучку. Хотя внуков у нее, за исключением Виктора, нет.
Вика приехал за пять дней до ее ухода. Бабуля вдруг расцвела, и Виктора тоже охватило чувство неестественного счастья. Или естественного. Вместе! Вместе не страшно! Сколько они болтали в эти дни, сколько смеялись, сколько шутили.
— Ты досидишь до самого этого самого? — спросила она.
— Что ты имеешь в виду? — сказал он, понимая, что поступает непозволительно, потому что ему был ответ известен, а она не сумеет сформулировать. Плохо же знал он Лерочку. Она так лукаво подмигнула, что он прямо-таки взвился на стуле.
— Ну, до самой… кончинки… — сначала залихватски, а потом вдруг растерянно выговорила она. Видно было, что намерение — лихое, а само по себе слово не хотело произноситься, а синоним не подбирался. Она тогда взяла стандартное слово и его пошлифовала по пути. Придала ему нежность.
Это слово отныне будет резать Виктору душу. Это как бритовка в сердце навсегда.
Запускала старые «пластинки», пробиваясь через мусор маразма, и это был совместный их с бабулей, высокий, поэтичный, предпрощальный абсурдный театр.
Она шутила, веселила Виктора, подыскивала яркие слова, блестевшие как конфетки. Момент был так торжествен, что к моменту не подходили блеклые слова, и Виктор с Лерочкой играли в слова, выбирали на цвет и вкус.
— Что это за цветные шарфики навалены на холодильнике. Уже не знают, как его переколпачить!
Да, душенька, Лерочка, ты показала миру, на кого в этот раз замахнулась смерть. Как подл этот беспощадный замах. И какая сильная стихия здесь сопротивляется, не поддается угнетению. Беден тот мир, откуда эта сила уйдет. Счастлив тот мир, куда она переселится. В мире том, другом, наверное, фанфары трубят, праздник готовится, радостный приход ожидается.
— Я все должна контролировать. Во-первых, мир от меня этого хочет, во-вторых, такой у меня характер.
Да, буленька, правда.
— Только песок, он песок и есть… Как же на нем строить?
И это правда, родная. Любой посюсторонний гранит — он все равно песок. Твердая, прочная почва примет тебя. Укрепится тобою.
— Почему у тебя такие волосы теплые?
Тебя я уже не могу согреть, родная, только, может быть, немножко. Разве что руки, дай я подержу. Хоть немного утеплю тебя. Через сильный холод придется идти. Может, слезы мои согреют? Они теплее, чем волосы. Может, тебе легче по той дороге пойдется под теплым дождем?
— Кожа у тебя хорошая, плотная. Ну ничего, на том свете половину морщин мне сразу снимут, а остальное посмотрим. Кожу надо будет уплотнить. Неприлично же выглядеть так, как я вот сейчас… Это надо будет переделать. Вообще многому мне там переучиваться предстоит. Люкочка уже, наверно, насобачилась и все умеет. Но я тоже постараюсь не отставать от нее…
Уход ее был столь же щедр, благообразен, почетен, как все, что делала Лера в жизни.
— Все очень хорошо, — сказал им Виктор, когда в комнату вошли, зарегистрировать событие, медсестра и врач.
…На заднем сиденье в такси Виктор продолжал ломать голову. Почему же он не узнал об этих документах? Не узнал ни когда их принесли, ни когда он приехал к Лерочке на умирание. Как он мог не заметить ящики в малогабаритной квартире в Ракитках? Выбросила, что ли, сиделка их сразу? Эта сиделка, кстати, это же Люба. Значит, Люба приняла у музейщика ящик с бумагами и, не открывая, на помойку снесла? Пыль не разводить и о лишние коробки в квартире не тереться? Место-то Любе требовалось под ее товары, под трехцветный полипропилен.
Подальше ящики от старухи, чтоб та не разводила ненужную возню. А то еще вцепится бабка во все эти филькины грамоты, пойдет вспоминать и рассказывать чего не поймешь.
Проще, когда старая в безучастной отключке трусится себе на кресле, будто злак сохлый.
Поэтому Виктор и не нашел ничего при ликвидации квартиры. Где теперь, на каком киевском мусорнике память Лёди и моего семейства сгнила? Ну, Люба мне за эти фокусы ответит, погодите.
Постой, как — сгнила? Мне же нищий передал ксерокопии в аэропорту. Значит, с той помойки бумаги неведомым образом были кем-то подобраны и попали к шантажистам, авантюрщикам, к людям, чьи намерения злы.
Надо обязательно и жестко допросить Любу, как она могла так дикарски обойтись с моим главным наследством, загубив мне, честно говоря, очень много времени и нервов. А ведь я ей, видит бог, ничего дурного не причинил и дважды совсем неплохие места работы приискивал. Ну есть ли у этой Любы в самом деле совесть! Правда, часть бумаг фантастическим путем дошла все-таки до меня через полтора года… Она их, может, кому-нибудь отдала или продала!
Такси мчит по Франкфурту, уланская прыть, непроглядный град. Как водителю удается разглядывать дорогу — неизвестно. Череп залит свинцом. Дышать Виктор может только пастью разинутой. Его покачивает на заднем сиденье, и в мозгу трепещется какой-то бормотливый бредовый стишок: