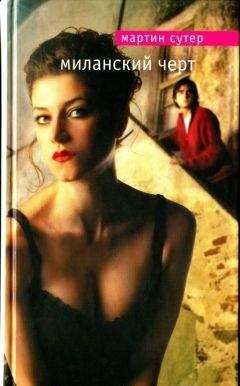Дэвид Пис - 1977. Кошмар Чапелтауна
– СОЛЬ! – вопит он мне вслед. – Чтобы мясо не испортилось!
Черт.
Улица погрузилась в темноту.
Предположительно смерть наступила между одиннадцатью вечера и часом ночи. Примерно в это время ее вышвырнули из паба.
После дождя на улице было еще темнее, чем сейчас. Потом поднялся ветер.
Кирпичи у гаража почти вывалились, они влажные и не высыхают даже в мае.
И тут я снова чувствую это. Я жду.
Я открываю дверь.
Оно там, смеется:
А тебя так сюда и тянет?
У меня в руке фонарик, я включаю его.
Она задирает юбку и спускает коричневые колготки, из которых вываливаются ее дряблые ляжки.
Я осматриваю помещение, на меня словно что-то давит.
Я не смогу
Снаружи из машины доносится музыка, громкая, быстрая, плотная.
Она улыбается, пытается надрочитъ мне, чтобы у меня встало.
Музыка прерывается.
Сейчас встанет.
Тишина.
Я разворачиваю ее, стягиваю блестящие черные трусы в белых полосках, я увеличиваюсь в размерах, вот, уже лучше, она начинает насаживаться на мой член.
Здесь есть крысы.
Но я не этого хочу, я хочу в задницу, но она протягивает руку и направляет меня в свою огромную растопыренную мохнатку.
Огромные крысы у меня под ногами.
Я вхожу в нее и выхожу, она опускается на колени…
Обратно наружу, меня рвет, пальцы в стену, в крови.
Я смотрю вдоль по улице – никого.
Я утираю слюни и рвоту, слизываю кровь с пальцев.
Вдруг крик:
– СОЛЬ!
Я подскакиваю.
Черт.
– Чтобы мясо не испортилось.
Бомж стоит рядом, смеется.
Сука.
Я толкаю его к стене, он спотыкается, падает, пялится снизу вверх на меня, в меня, сквозь меня.
Я размахиваюсь, мой кулак впечатывается в его щеку.
Он сворачивается в клубок, поскуливая.
Я снова бью его. Мой кулак словно сам по себе отскакивает от его затылка к стене.
От досады я пинаю, пинаю, пинаю его до тех пор, пока не чувствую крепко обхватившие меня руки, не слышу шепот Радкина:
– Тихо, Боб, тихо.
В углу фойе старинной почтовой гостиницы я упрашиваю, умоляю в телефонную трубку:
– Ну прости, мы думали, что вернемся в тот же день, но они хотят, чтобы мы…
Она не слушает, я слышу плач Бобби, она говорит, что я его разбудил.
– Как отец?
А как я, блин, думаю? И вообще, мне, как видно, наплевать. И поэтому не стоит зря сотрясать воздух.
Она бросает трубку.
Я стою, вдыхаю доносящийся из ресторана запах жареного, слушаю голоса сидящих в баре: Радкин, Эллис, Фрэнки и еще человек пять престонских полицейских.
Я рассматриваю свои пальцы, костяшки, царапины на ботинках.
Я снова снимаю трубку и набираю Дженис, но у нее по-прежнему никто не отвечает.
Я смотрю на часы: второй час.
Она работает.
Трахается.
– Они уже закрываются, мать их растак. Нет, ты представляешь? – говорит Радкин, направляясь к сортиру.
Я возвращаюсь в бар и допиваю свое пиво.
Они все уже нажрались, и серьезно.
– А что, бля, нету в ваших краях приличных клубов, да? – спрашивает Радкин, возвращаясь из туалета, застегивая на ходу ширинку.
– Ща-ас что-нибудь организуем, – говорит заплетающимся языком Фрэнки.
Народ пытается встать, обсуждают такси, одно место, другое, рассказывают байки про какого-то мужика и бабу.
Я отделяюсь от компании и говорю:
– А мне пора на сеновал.
Меня обзывают гребаным пидором и говнюком, я соглашаюсь, притворяюсь пьяным и ухожу, спотыкаясь, прочь по слабо освещенному коридору.
Неожиданно Радкин снова меня обнимает.
– Все нормально? – спрашивает он.
– Все путем, – отвечаю я. – Просто вымотался, как собака.
– Не забудь: я всегда рядом.
– Я знаю.
Он еще крепче сжимает мое плечо:
– Ты, главное, не бойся, Боб.
– А чего мне бояться?
– Вот этого всего, – говорит он и взмахом руки охватывает разом все вокруг, потом указывает на меня.
– Да я не боюсь.
– Тогда греби отсюда, пидор ты вонючий, – ржет он, уходя прочь.
– Желаю как следует повеселиться, – говорю я.
– Смотри, осторожно, а то ослепнешь, – кричит он из другого конца коридора. – Как твой старый приятель Уолтер.
Дверь открывается, на меня смотрит какой-то мужик.
– Тебе чего?
Он закрывает дверь.
Я слышу, как в ней поворачивается замок, как он проверяет его.
Я изо всех сил стучу в его дверь, жду, потом иду в свою комнату, тыкая ключом себе в руку.
Среди ночи я сижу на краю гостиничной койки, горит свет, телефон Дженис звонит и звонит, не переставая; на постели рядом со мной лежит телефонная трубка.
Я подхожу к кровати Радкина и беру папку.
Листаю страницы, копии, которые мы повезем с собой.
Я дохожу до протокола дознания.
Я смотрю на одно-единственное одинокое несчастное слово.
Что-то не то, третья выглядит как-то не так.
Я подношу листок к лампе.
Это – оригинал.
Черт —
Радкин оставил им копию.
Я кладу листок обратно в папку и закрываю ее.
Я беру с кровати трубку.
Телефон Дженис все еще звонит.
Я кладу ее на место.
Я снова беру листок.
Снова кладу его обратно.
Я выключаю лампу и лежу в темноте престонской почтовой гостиницы, в невыносимо жаркой комнате, под гнетом.
Мне страшно, я боюсь.
Мы что-то упустили. Или кого-то.
В конце концов я закрываю глаза.
Думаю: главное, не бояться.
* * *Звонок в студию: Вы это видели (читает): «Сборы в честь Серебряного Юбилея достигли одного миллиона фунтов стерлингов»?
Джон Шарк: А вы что, Боб, чем-то недовольны?
Слушатель: Конечно нет, черт побери. В тот же день представители МВФ приезжают в Лондон, чтобы встретиться с Хили.[15]
Джон Шарк: Да, странновато.
Слушатель: Странновато? Да это же полный привет, Джон. Вся страна сбрендила на хрен.
Передача Джона ШаркаРадио ЛидсСреда, 1 июня 1977 годаГлава четвертая
Узкий внутренний двор образован шестью зданиями, побеленными до второго этажа. На оконных рамах – остатки зеленой краски. Вход во двор – через узкую, похожую на тоннель арку, расположенную между домами номер 26 и 27 Доссет-стрит. Оба дома принадлежат мистеру Джону Маккарти, 3 7-летнему мужчине, родившемуся во Франции, впоследствии получившему британское подданство. В доме номер 27, расположенном слева от арки, находится свечная лавка мистера Маккарти, а над ней и позади нее – меблированные комнаты. В доме номер 26 также имеются комнаты для постояльцев. Первый этаж в задней части здания разделен перегородками так, чтобы образовалась дополнительная комната. Это ее комната, номер 13.
Комната маленькая, около двенадцати квадратных футов. Вход в нее расположен в самой глубине арки, с правой стороны. Помимо кровати в комнате стоят два больших стола и один маленький, а также два стула из столового гарнитура, у одного из которых сломана спинка. В очаге некоторое время тому назад что-то жгли, в оставшемся пепле обнаружены фрагменты одежды. Над очагом, расположенном напротив двери, висит гравюра под названием «Вдова рыбака». В маленьком настенном шкафу, висящем рядом с гравюрой, стоят несколько пустых бутылок из-под имбирного пива и посуда, лежит кусок черствого хлеба. Одно из двух окон, выходящих во двор и расположенных под прямым углом ко входу, занавешено мужским кителем.
Я проснулся до рассвета, дождь барабанил по окну, женские каблуки – по темной аллее.
Я сел в постели и увидел, что они сидят на шкафах – шесть белых ангелов с дырками в ногах, дырками в руках, дырками в головах. Они поглаживают свои волосы и крылья.
– Ты опоздал, – сказал самый высокий из них, подходя к кровати.
Она легла рядом со мной, взяла мою руку и, сунув ее под белый хлопок своего одеяния, крепко прижала к своему животу.
– У тебя идет кровь, – сказал я.
– Нет, – прошептала она. – Это у тебя.
Я дотронулся пальцами до своего лица – они оказались в крови.
Я заткнул нос старым грязным носовым платком и спросил:
– Кэрол?
– Ты не забыл, – ответила она.
– Спасибо, что так быстро отреагировали на мой запрос.
– Не за что, – ответил заместитель начальника полиции Джордж Олдман.
Мы сидели в его новеньком суперсовременном кабинете.
Была среда, 1 июня 1977 года.
Одиннадцать утра. Дождь кончился.
– Слышишь? – сказал Джордж Олдман, кивая в сторону открытого окна, из которого доносились крики и топот кадетов, выходящих из полицейского училища.
– В ближайшие пять лет мы потеряем половину этих ребят.
– Так много?
Он посмотрел на бумаги, лежавшие на его столе, и вздохнул:
– Может, и больше.
Я оглядел комнату. Интересно, чего он от меня ждет? Интересно, зачем я попросил Хаддена устроить эту встречу?